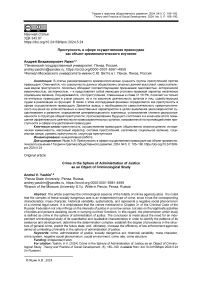Преступность в сфере осуществления правосудия как объект криминологического изучения
Автор: Яшин А.В.
Журнал: Теория и практика общественного развития @teoria-practica
Рубрика: Право
Статья в выпуске: 5, 2024 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается криминологическая сущность группы преступлений против правосудия. Отмечается, что совокупность данных общественно опасных деяний выступает самостоятельным видом преступности, поскольку обладает соответствующими признаками: массовостью, исторической изменчивостью, системностью, - и представляет собой имеющее уголовно-правовой характер негативное социальное явление. Подчеркивается, что преступления, отмеченные в главе 31 УК РФ, посягают не только на интересы правосудия в узком смысле, но и на законную деятельность органов и лиц, содействующих судам в реализации их функций. В связи с этим исследуемый феномен определяется как преступность в сфере осуществления правосудия. Делается вывод о необходимости самостоятельного криминологического изучения ее количественных и качественных характеристик в целях выявления закономерностей существования и развития, определения детерминационного комплекса, установления степени распространенности в структуре общей преступности, прогнозирования будущего состояния и в конечном итоге повышения эффективности деятельности правоохранительных органов, направленной на противодействие преступности в сфере осуществления правосудия.
Преступность, осуществление правосудия, общественно опасное деяние, историческая изменчивость, массовый характер, система преступлений, негативное социальное явление, социальная среда, уровень преступности, структура преступности
Короткий адрес: https://sciup.org/149145855
IDR: 149145855 | УДК: 343.97 | DOI: 10.24158/tipor.2024.5.24
Текст научной статьи Преступность в сфере осуществления правосудия как объект криминологического изучения
1Пензенский государственный университет, Пенза, Россия, , 2Филиал Московского университета имени С.Ю. Витте в г. Пензе, Пенза, Россия
, 0000-0001-6981-4959
Правосудие является необходимым элементом любого правового государства, в качестве основной задачи которого выступает надлежащая защита прав и свобод личности, законных интересов общества и государства. Посредством отправления правосудия обеспечивается легитимное и справедливое урегулирование конфликтов во всех сферах общественной жизни. При этом правильное осуществление правосудия обеспечивается многими государственными органами, общественными организациями и объединениями, отдельными гражданами, между которыми неизбежно возникают противоречия, не всегда разрешающиеся правомерными способами. В связи с этим правосудие, а также содействующие ему лица и органы сами нуждаются в государственной охране от угроз криминального характера. В этих целях законодателем сконструированы уголовно-правовые нормы, содержащиеся в главе 31 Уголовного кодекса Российской Федерации (УК РФ)1, регламентирующие ответственность за преступные посягательства на интересы правосудия, содействующих ему органов и лиц.
Следует признать, что совокупность преступлений, обозначенных в главе 31 УК РФ, представляет собой самостоятельный вид преступности, поскольку обладает необходимыми для этого криминологическими признаками. Думается, что прежде, чем рассматривать признаки данного вида преступности, необходимо определиться с терминологической основой и конкретизацией входящих в нее общественно опасных деяний. К сожалению, в криминологической доктрине вопросы изучения преступности, связанной с посягательством на интересы правосудия, недостаточно разработаны, поэтому уточнение ее понятия и признаков представляется актуальным как в теоретическом, так и прикладном аспектах.
В юридической литературе встречается различная терминология, обозначающая рассматриваемый вид преступности. В частности, В.В. Намнясева оперирует понятием «преступность в сфере посягательств на интересы правосудия» (Намнясева, 2018: 56), Ю.А. Цветков данное негативное явление именует преступностью в сфере правосудия (Цветков, 2016: 89).
В криминологических источниках наличествует весьма спорная точка зрения, согласно которой преступность в сфере правосудия образуют не только преступления, входящие в главу 31 УК РФ, но и деяния, предусмотренные ст. 317–321 УК РФ (Клейменов, Иванов, 2019: 109). Представляется, что перечень таких посягательств является избыточным. Преступления, предусмотренные ст. 317–320 УК РФ вряд ли можно отнести к деяниям в сфере правосудия, поскольку они направлены на нарушение нормальной деятельности сотрудников правоохранительных органов и представителей власти в связи с исполнением их должностных обязанностей. В данном случае интересы правосудия никак не затрагиваются, так как деятельность лиц, потерпевших от преступлений, предусмотренных ст. 317–320 УК РФ, связана с охраной порядка, обеспечением общественной безопасности, иной управленческой деятельностью. Лица, пострадавшие от таких деяний, не участвуют в судопроизводстве, не оказывают влияния на отправление правосудия и не исполняют судебные акты.
Тем не менее преступления, предусмотренные ст. 321 УК РФ, допустимо рассматривать как посягательства на интересы правосудия, поскольку они препятствуют исправлению осужденных и причиняют вред законным интересам сотрудников пенитенциарных учреждений, исполняющих уголовные наказания, назначенные судами. Данной позиции, которая представляется перспективной, придерживаются многие ученые. В частности, П.А. Мещеряков обосновывает перемещение статьи 321 из главы 32 в главу 31 УК РФ (Мещеряков, 2020: 50). По мнению А.В. Шеслера и М.В. Киселева, деятельность учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества, представляет собой оказание содействия правосудию, вследствие чего ст. 321 УК РФ должна содержаться в перечне преступлений против правосудия (Шеслер, Киселев, 2017: 83). В научном проекте Уголовного кодекса Российской Федерации, подготовленном коллективом авторов под руководством Н.А. Лопашенко, статья, предусматривающая уголовную ответственность за дезорганизацию деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества, размещена в главе «Преступления против правосудия и деятельности органов и лиц, способствующих осуществлению правосудия» (Уголовный кодекс Российской Федерации (научный проект) …, 2019: 292).
Стоит подчеркнуть, что далеко не все преступления, перечисленные в главе 31 УК РФ, посягают именно на интересы правосудия, под которым подразумевается деятельность судов, связанная с осуществлением конституционного, гражданского, арбитражного, уголовного и административного судопроизводства. Дополнительными объектами многих составов является законная деятельность органов и лиц, содействующих судам в реализации их функций. Вследствие этого рассматриваемое явление следует определить как преступность в сфере осуществления правосудия.
Безусловно, данный вид преступности носит массовый характер, потому как в Российской Федерации ежегодно регистрируется десятки тысяч данных общественно опасных деяний.
В частности, в 2018 г. правоохранительными органами было зафиксировано 18 143 преступления против правосудия, в 2019 г. – 19 032, в 2020 г. – 19 083, в 2021 г. – 20 658, в 2022 г. – 21 068, в 2023 г. – 20 5361. Удельный вес данных посягательств в структуре всей преступности составляет более 1,0 %, что позволяет выделять и анализировать самостоятельные количественные и качественные характеристики совокупности преступлений, посягающих на интересы правосудия. Кроме того, приведенные статистические данные свидетельствуют об устойчивом росте уровня преступлений против правосудия, то есть об увеличении их суммы в массе всех зарегистрированных в стране общественно опасных деяний.
Комплекс преступлений против правосудия обладает свойством исторической изменчивости. Как верно подчеркивает О.В. Журкина, до момента формирования современных уголовноправовых норм меры охраны интересов правосудия прошли достаточно длительный этап развития (Журкина, 2014: 38). Следует отметить, что данные общественно опасные деяния были известны в древности. Впервые о посягательствах, совершаемых против судебной власти, было сказано в Русской правде2, которую В.О. Ключевский относил к кодексу, служившему руководством для княжеских судей XI в. (Ключевский, 2002: 197). Прообразы составов преступлений против правосудия находят свое отражение и во многих других правовых источниках российского государства: Уставах князя Владимира Святославовича и князя Ярослава Мудрого3, Новгородской судной грамоте4, Судебниках 14975 и 1550 гг.6, Двинской7 и Белозерской8 уставных грамот, Соборном уложении 1649 г.9, Артикуле воинском 1715 г.10 и многих других (Яшин, 2020: 135–140).
Однако выделение интересов правосудия в качестве самостоятельного объекта преступного посягательства началось с Уложения о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г.11 (Летягина, 2019: 65). В нем и последующих нормативных актах, в том числе, Уголовных кодексах РСФСР12 и РФ, были сформированы конкретные составы рассматриваемых преступлений. Эволюция уголовного законодательства в сфере охраны интересов правосудия от преступных посягательств продолжается и в настоящее время, что обусловлено развитием и совершенствованием современных общественных отношений. Так, в последние годы в главе 31 УК РФ появились новые уголовно-правовые нормы, соответствующие реалиям времени (например, части 3 и 4 статьи 302 УК РФ, часть 4 статьи 303 УК РФ, часть 3 статьи 314 УК РФ, статья 314.1 УК РФ).
Преступность в сфере осуществления правосудия, несомненно, представляет собой и социальное явление. Это связано с тем, что криминализация законодателем деяний, посягающих на интересы правосудия, вызвана потребностью общества в законной и справедливой деятельности судебных и правоохранительных органов по обеспечению целей и задач правосудия. Кроме того, совершение преступлений против правосудия предопределено противоречиями общественной жизни, так как социальная среда непосредственно влияет на формирование и дальнейшее развитие преступного поведения индивида.
Сфера осуществления правосудия является особым видом социальной среды, и вовлечение в нее личности неизбежно приводит к конфликту сторон, участвующих в предварительном расследовании, всех видах судопроизводства, а также деятельности, связанной с исполнением наказания. Осуществление правосудия всегда влечет законное ограничение прав и свобод лиц, участвующих в судопроизводстве, подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, подсудимых, осужденных, лиц, освободившихся из мест лишения свободы. Вследствие этого указанные субъекты пытаются разрешить возникшие перед ними проблемы противоправными способами и совершают преступления против правосудия.
Следует отметить, что существенное количество преступлений против правосудия совершают должностные лица, призванные сами пресекать противоправные поступки, причем данная проблема наличествует в правоохранительных органах многих зарубежных государств (Luban, 2012: 850). В данном случае сфера осуществления правосудия как подсистема социальной среды «стимулирует» их преступное поведение, поскольку многие общественно опасные деяния совершаются должностными лицами в целях повышения своего социального статуса. Так, нередко преступным путем они повышают показатели служебной деятельности для того, чтобы добиться повышения в должности, звании, получения премий и стимулирующих выплат. Как отмечает А.Н. Халиков, такие лица стремятся раскрыть и расследовать преступления любыми способами, вопреки требованиям закона (Халиков, 2022: 19).
К примеру, 08 ноября 2022 г. Троицким районным судом г. Москвы гр-н М. осужден к 2 годам лишения свободы, 2 годам лишения права занимать определенную должность и лишению специального звания «майор юстиции» за совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 303 УК РФ. В ходе судебного заседания установлено, что М., занимая должность старшего следователя ГСУ МВД России, в целях повышения качественных показателей своей работы сфальсифицировал документ, подтверждающий стоимость похищенного имущества, и приобщил его в качестве доказательства к материалам уголовного дела1.
Преступность в сфере осуществления правосудия, бесспорно, является негативным социальным явлением, так как представляет собой опасный феномен социальной жизни и причиняет вред обществу.
Преступности в сфере осуществления правосудия присущ и признак системности. Она представляет собой не просто совокупность преступлений, а определенную систему взаимосвязанных и взаимообусловленных компонентов, обладающих своими собственными количественными и качественными характеристиками. Структурными элементами рассматриваемого вида преступности выступают группы общественно опасных деяний, объединенных сходными свойствами. Так, в массиве преступлений против правосудия в качестве составных звеньев можно выделить, например, деяния, посягающие на отношения по реализации судебного акта, на процессуальный порядок получения доказательств по делу и т.п.
Кроме того, каждое преступление, указанное в главе 31 УК РФ, представляет собой отдельную единицу, входящую в общую систему преступности в сфере осуществления правосудия. Вместе с тем сама она является одной из подсистем всей преступности в целом. Это подчеркивает системный характер рассматриваемого негативного социального явления. Причем все составляющие данных систем и подсистем взаимозависимы.
Как уже было сказано выше, в последние годы наблюдается стабильное увеличение уровня преступности в сфере осуществления правосудия, что зависит от положительного темпа прироста далеко не всех преступлений, содержащихся в главе 31 УК РФ. Изменение количественных показателей преступности в сфере осуществления правосудия в сторону роста обусловлено отдельными преступлениями, в частности, предусмотренными ст. 299, 303, 314.1, 315 УК РФ, регистрационные значения которых ежегодно приумножаются. Нельзя при этом не заметить, что совершение отдельных преступлений против правосудия может обусловить возникновение преступных посягательств на иные объекты уголовно-правовой охраны.
Так, лица, уклоняющиеся от административного надзора или неоднократно не соблюдающие установленные судом в соответствии с федеральным законом ограничения, нередко совершают разнохарактерные преступления. Такие субъекты, самовольно оставив место жительства или пребывания, избежав тем самым надзора со стороны правоохранительных органов, продолжают заниматься преступной деятельностью. Таким образом, их деяния квалифицируются как по ст. 314.1, так и по другим статьям Уголовного кодекса РФ, что приводит к повышению уровня преступности не только в сфере осуществления правосудия, но и в целом.
Например, 16 ноября 2023 г. Первомайским районным судом г. Пензы гр-н Ш. был осужден к 2 годам 2 месяцам лишения свободы за совершение преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 314.1 УК РФ и п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ. В ходе судебного заседания установлено, что Ш., в отношении которого судом был установлен административный надзор, в период с 22 апреля по 25 мая 2023 г.
скрывался от сотрудников полиции и проживал по разным адресам. 17 мая 2023 г. Ш. совершил кражу бытовой техники из арендованной им квартиры1.
Согласно официальным статистическим данным, в Российской Федерации ежегодно (за исключением 2023 г.) наблюдался рост зарегистрированных преступлений, предусмотренных ст. 314.1 УК РФ. В 2018 г. было зафиксировано 10 165 таких деяний, в 2019 г. – 11 200, в 2020 г. – 11 764, в 2021 г. – 13 752, в 2022 г. – 14 534, в 2023 г. – 14 282. Из этого следует, что количественные показатели данных преступлений влияют на уровень не только преступности в сфере осуществления правосудия, но и иных ее видов, а также всей преступности в стране в целом, что подтверждает системно-структурную сущность преступности в сфере осуществления правосудия.
Уголовно-правовой характер рассматриваемого вида преступности определен тем, что входящие в нее деяния регламентированы отечественным уголовным законодательством.
На основании изложенного следует заключить, что преступность в сфере осуществления правосудия является самостоятельным видом преступности, имеющим ярко выраженную специфику, обусловленную особыми общественными отношениями, и обладает комплексом необходимых признаков, позволяющих сформулировать ее дефиницию.
Так, под преступностью в сфере осуществления правосудия следует понимать относительно массовое, исторически изменчивое, системно-структурное, негативное социальное, имеющее уголовно-правовой характер явление, представляющее собой совокупность преступлений, посягающих на интересы правосудия и деятельность содействующих ему органов и лиц, совершаемых на соответствующей территории за определенный промежуток времени, характеризующееся своими собственными количественными и качественными показателями.
Самостоятельное исследование преступности в сфере осуществления правосудия необходимо в целях выявления закономерностей ее существования и развития, определения продуцирующих ее причин и условий, установления степени распространенности в структуре общей преступности, раскрытия полноты отражения данных о фактически совершаемых преступлениях в уголовной статистике, прогнозирования будущего состояния, разработки наиболее эффективных мер противодействия ей.
Список литературы Преступность в сфере осуществления правосудия как объект криминологического изучения
- Журкина О.В. История развития российского уголовного законодательства, предусматривающего уголовную ответственность за преступления против правосудия // Белые пятна российской и мировой истории. 2014. № 3. С. 37–46.
- Клейменов М.П., Иванов Е.С. Эффективность противодействия преступности в сфере правосудия путем применения наказания // Правоприменение. 2019. Т. 3, № 1. С. 108–118. https://doi.org/10.24147/2542-1514.2019.3(1).108-118.
- Ключевский В.О. Русская история. Полный курс лекций: в 3 т. М., 2002. Т. 1. 592 с.
- Летягина Е.А. Исторические этапы и предпосылки развития законодательства об уголовной ответственности за преступления против правосудия // Теория государства и права. 2019. № 4 (16). С. 62–68. https://doi.org/10.25839/MATGIP.2019.16.4.002.
- Мещеряков П.А. Вопросы совершенствования уголовно-правовых норм по противодействию дезорганизации деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества // Вестник Пермского института ФСИН России. 2020. № 2. С. 49–52.
- Намнясева В.В. Латентная преступность в сфере посягательств на интересы правосудия // Вестник Волгоградской академии МВД России. 2018. № 4 (47). С. 55–62. https://doi.org/10.25724/VAMVD.EKLM.
- Уголовный кодекс Российской Федерации (научный проект) / под ред. Н.А. Лопашенко. М., 2019. 320 с.
- Халиков А.Н. Умысел при совершении преступлений против правосудия // Юристъ-Правоведъ. 2022. № 4 (103). С. 17–21.
- Цветков Ю.А. Преступность в сфере правосудия: современное состояние и тенденции // Расследование преступлений: проблемы и пути их решения. 2016. № 1 (11). С. 88–92.
- Шеслер А.В., Киселев М.В. Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества: проблемы уголовно-правовой регламентации и квалификации // III Международный пенитенциарный форум «Преступление, наказание, исправление» (к 20-летию вступления в силу Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации): в 8 т. Рязань, 2017. Т. 1. С. 81–87.
- Яшин А.В. Предупреждение преступлений против участников уголовного судопроизводства. М., 2020. 320 с.
- Luban D. Mental Torture: A Critique of Erasures in U.S. Law // Georgetown Law Journal. 2012. № 100. Р. 823–863.