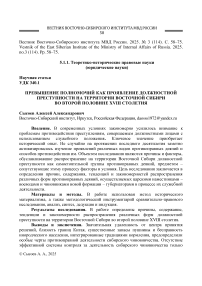Превышение полномочий как проявление должностной преступности на территории Восточной Сибири во второй половине XVIII столетия
Автор: Сысоев А.А.
Журнал: Вестник Восточно-Сибирского института Министерства внутренних дел России @vestnik-vsi-mvd
Рубрика: Теоретико-исторические правовые науки (юридические науки)
Статья в выпуске: 3 (114), 2025 года.
Бесплатный доступ
Введение. В современных условиях закономерно усилилось внимание к проблемам противодействия преступлениям, совершаемым должностными лицами с использованием служебного положения. Ключевое значение приобретает исторический опыт. Не случайно на протяжении последнего десятилетия заметно активизировалось изучение проявлений различных видов противоправных деяний и способов противодействия им. Объектом исследования являются причины и факторы, обуславливавшие распространение на территории Восточной Сибири должностной преступности как самостоятельной группы противоправных деяний, предметом – сопутствующие этому процессу факторы и условия. Цель исследования заключается в определении причин, содержания, тенденций и закономерностей распространения различных форм противоправных деяний, осуществляемых царскими наместниками – воеводами и чиновниками новой формации – губернаторами в процессе их служебной деятельности. Материалы и методы. В работе использован метод исторического материализма, а также методологический инструментарий сравнительно-правового исследования, анализ, синтез, дедукция и индукция. Результаты исследования. В работе определены причины, содержание, тенденции и закономерности распространения различных форм должностной преступности на территории Восточной Сибири во второй половине XVIII столетия. Выводы и заключения. Значительная удаленность от центра принятия решений, близость границ Китая, существенные запасы пушнины и бесправность инородческого населения, интегрированные традициями кормления, предопределили особые черты противоправной деятельности сибирского чиновничества. Отсутствие эффективной системы контроля за деятельность сибирского чиновничества только усугубляло сложившуюся ситуацию. Без изменения условий, способствовавших распространению должностной преступности, и создания системы юридических ограничений и запретов вышеперечисленные способы не давали должного эффекта. Противоправная деятельность губернских чиновников в Восточной Сибири, когда их решения и поступки, связанные с выполнением служебных обязанностей, явно выходили за пределы установленных полномочий и нарушали существовавшие узаконения, получила повсеместное распространение и оказывала существенное воздействие на эффективность местного администрирования.
Должностное преступление, превышение полномочий, противоправные деяния, злоупотребления, наместник, чиновник, администрация
Короткий адрес: https://sciup.org/143184909
IDR: 143184909 | УДК: 340.1
Текст научной статьи Превышение полномочий как проявление должностной преступности на территории Восточной Сибири во второй половине XVIII столетия
По мнению видного криминалиста досоветского времени Валериана Николаевича Ширяева, «преступные деяния должностных лиц занимали особое исключительное положение». Ученый утверждал, что в отличие от проявлений общей преступности, «способной вызвать и породить общественную тревогу, развитие и умножение должностных преступлений может быть рассматриваемо, как общественное бедствие» [1, с. 1].
Принято считать, что впервые термин «превышение власти» в отечественном праве был применен в 1811 г. и касался главным образом высших чиновников империи – министров1 . Спустя двадцать лет, благодаря принятию закона «О преступлениях чиновников по службе» в 1832 г., это понятие распространилось на всех, кто состоял на государственной службе2.
Между тем, противоправная деятельность царских чиновников, когда их решения и поступки, связанные с выполнением служебных обязанностей, явно выходили за пределы установленных полномочий и нарушали существовавшие узаконения, имела достаточно продолжительную практику еще до XIX столетия.
Проявлявшееся изначально как сопутствующий фактор при незаконном обогащении за счет службы – лихоимстве, в дальнейшем превышение властных полномочий получило свое многоплановое развитие уже в качестве обособленного деяния и, помимо корыстных устремлений, могло сопровождаться физическим насилием, изменой государственным интересам, либо политическим авантюризмом.
В Сибири, благодаря значительной удаленности от центральных областей Московского государства, должностная преступность изначально имела свои особенные черты. Близость границ Китая, существенные запасы пушнины, бесправность инородческого населения, традиции кормления, интегрированные полным отсутствием контроля, практически сразу предопределили в качестве главного инструмента наживы должностные полномочия царских наместников.
С особой остротой это обстоятельство, по мнению отечественных исследователей, проявилось в конце XVII–начале XVIII столетий, в период, когда во всем государстве «произошло увеличение неисполнения чиновниками норм, установленных законами, царскими указами» [2, с. 8].
К этому времени в Восточной Сибири противоправные действия царских наместников, воевод, приобрели всеобъемлющий характер, а их последствия зачастую приводили к народным волнениям и вооруженному противодействию на местах со стороны ясачного и податного населения. При этом единственным органом дознания и контроля за действиями царских наместников являлись воеводы, приезжавшие на смену своим предшественникам. Таким образом, как сообщает отечественный историк-археограф Николай Николаевич Оглоблин, почти все сибирские воеводы XVII столетия «не миновали участи своих предшественников и в свое время подверглись сыску» [3, с. 183].
Показательными в этой связи являлись события 1695-1698 г. в Красноярске. Получившие впоследствии название «Красноярская шатость» волнения посадского населения и казаков оказались прямым следствием многочисленных злоупотреблений воевод Алексея и Мирона Башковских. При этом немаловажным и фактически подстегнувшим беспорядки оказалось бездействие нового воеводы стольника Семена Ивановича Дурново, назначенного для проведения сыска. Тогда единственным выходом для посадского населения стало смещение красноярских воевод при помощи вооруженной силы [4, с. 46].
Прекрасно иллюстрировали систему злоупотреблений властными полномочиями, по мнению Натальи Дмитриевны Зольниковой, противоправные действия царских наместников в Якутске [5, с. 186]. Последние в погоне за наживой не только беспринципно попирали полномочия сыщиков Сибирского приказа, но и явно игнорировали указания из центра, в результате чего направленный в 1690 г. «разведать, от чего ясачный сбор умалился, и про воевоцкие неправые дела» тобольский дворянин Федор Родионович Качанов оказался пленником якутского воеводы стольника князя Ивана Михайловича Гагарина.
В своем исследовании Н. Д. Зольникова указывает, что, несмотря на грамоту из Сибирского приказа о «вспоможении» во всех делах, сыщик был изолирован на собственном дворе с приставлением караула. При этом по указанию воеводы Гагарина всем жителям Якутска под страхом смертной казни запрещалось передавать Ф. Р. Качанову и его людям продовольствие и воду. Не удовлетворившись фактическим арестом и полной изоляцией царского сыщика, воевода сам без традиционной для этого действия санкции в виде «государева указа» начал против него свой сыск. Получив же государеву грамоту с приказом отпустить Ф. Р. Качанова в Москву с предоставлением дощатника и припасов, воевода не только ее проигнорировал, но и организовал вооруженное нападение. Приобретённое сыщиком на собственные средства судно было изрублено и сброшено в реку [5, с. 192].
Подобные действия сибирской администрации, сопровождавшиеся явным превышением полномочий, получали значительный резонанс и воспринимались центральными властями как наиболее опасные деяния, несущие значительные материальные потери и угрожающие основам управления на окраинах государства. Однако в условиях, когда дознание о неправомерных поступках царских наместников проводилось их сменщиками – вновь прибывшими воеводами, или отдельными сыщиками, действовавшими автономно и без должной поддержки, решить проблему превышения властных полномочий не представлялось возможным.
Очередной попыткой разрешения противоречий в системе управления восточными окраинами стала организация всесибирского розыска. Для подробного расследования причин «Красноярской шатости», проведения дознания об иных противоправных деяниях Сибирским приказом был организован «Большой сыск думного дьяка Данилы Леонтьевича Полянского и дьяка Данилы Берестова о злоупотреблениях сибирских воевод».
По сведениям Н. Н. Оглоблина, сыск проводился в период с 1696 по 1702 г. Автор утверждал, что сыск по своей организации и размаху «имел характер сенаторских ревизий позднего времени». Широту властных полномочий Полянского и Берестова демонстрировало их право «пытать по уликам с очных ставок не только воеводских людей и ясачных сборщиков, но и самих воевод» [6, с. 180]. За разные «неисправы» последние подлежали ссылке в отдаленные сибирские города с конфискацией имущества. В исключительных случаях, когда розыск выявлял вину царского наместника в грабеже ясачного населения и «измене», сыщиком давалось право «казнить самих воевод, не отписываясь о том даже в Москву» [7, с. 169].
Правительство, утверждал Н. Н. Оглоблин, придавало большое значение этому розыску и всячески ему содействовало. О значении экспедиции сыщиков в Сибирь свидетельствует внимание к ней Петра I. В личном письме Полянскому от 4 марта 1696 г. царь указывал: «для чего он, Данила, послан – помнить, и души своей и головы не потерять» [6, с. 188].
Итогом расследования Д. Л. Полянского и Д. Берестова стало 16 сыскных дел о противоправных действиях царских наместников и… значительное количество челобитных на самих сыщиков. В результате вместо завершения «Большого сыска о злоупотреблениях сибирских воевод» было заведено следствие уже против самих сыщиков, и для дальнейших разбирательств их отозвали в Москву.
По мнению одних исследователей, недовольство действиями сыщиков объяснялось их энергичной деятельностью, «вызвавшей страшную ненависть со стороны сибирских служилых людей, выразившуюся наконец в том, что на них самих посыпались обвинения в разных злоупотреблениях» [6, с. 190]. По мнению других причиной опалы Д. Л. Полянского стала «неспособность справится с Красноярским восстанием» [5, с. 212]. Третьи полагают, что «принимая потоки челобитных на воевод, дьяк проявлял колебания или откровенно покрывал «неправды» и должностные преступления сибирских правителей» [8, с. 28].
При этом очевидно и то, что даже специально организованный «Большой сыск» не принес ожидаемых результатов. Исключить или хотя бы минимизировать преступные действия царских наместников и подведомственных им чинов в Сибири имеющимися в распоряжении правительства средствами не представлялось возможным. Введение различных имущественных запретов, уменьшение сроков службы и попытки более пристального контроля за деятельностью воевод не приносили желаемых результатов. Огромные расстояния от центра принятия решений и значительное время на их воплощение обеспечивали сибирским воеводам полную автономность и в известной степени являлись иммунитетом от преследования последних за проступки по службе.
Не оказали должного влияния на сложившуюся ситуацию и административные преобразования Петра I. Жесткая централизация властных структур и последовавшее за этим введение института генерал-губернаторства на окраинных землях только усугубили положение. По мнению Михаила Олеговича Акишина, бюрократизация управления вкупе с созданием губерний привели к тому, что «в Сибири очень быстро сформировалась организация казнокрадов и взяточников, которая полностью соответствовала иерархии официального местного управления» [9, с. 6]. Таким образом, сибирские губернаторы, изначально являющиеся доверенными лицами царя, в силу действовавших порядков получили возможность к безграничному личному обогащению.
В этом отношении дело первого Сибирского губернатора князя Матвея Петровича Гагарина оказалось не только одним из самых громких разоблачений петровской эпохи, но и воочию продемонстрировало все многообразие и масштабы противоправной деятельности царских чиновников, выполнявших свои служебные обязанности на Востоке страны. Только официально установленная в ходе следствия сумма ущерба казне от противоправной деятельности первого Сибирского губернатора составила 305554 руб. [10, с. 180]. Кроме того, асессором следственной канцелярии И.И. Дмитриева-Мамонова гвардии майором И. М. Лихаревым были выявлены 35 фактов злоупотреблений властными полномочиями [11, с. 27].
Благодаря своему положению, М. П. Гагарин контролировал все назначения на должности воевод, обер-комендантов, комендантов, и, по сведениям современного исследователя Гергилева Д. Н., при «отборе верных ему чиновников вступал в противоречие с законодательством Петра I». В этой связи автор отмечает, что «выбирая среди претендентов на должности воевод и комендантов М. П. Гагарин стремился окружать себя родственниками и старыми «знакомцами» [12, с. 119].
Манипулируя назначениями на «хлебные» должности, губернатор сумел добиться не только полной лояльности подведомственных чиновников, но и фактически узурпировал торговлю с Китаем. В связи с чем фискалы докладывали царю: «Гагарин допускает к Китайскому торгу только своих приятелей, вместе с которыми получает превеликое богатство» [13, с. 80]. Таким образом, логическим последствием «должностного кумовства» оказалось не только причинение экономического ущерба государству, но и использование дипломатических отношений с Китаем в частных интересах [14, с. 365].
Помимо торговых махинаций, первого Сибирского губернатора обвиняли в незаконных поборах с крестьян, расходовании казны на личные нужды, во взятках за предоставление права сбора податей с винной и пивной продажи, в вымогательстве подношений с купцов. При этом, наряду со стремлением к незаконному обогащению, выделялись проступки, напрямую связанные с превышением властных полномочий. В частности, М. П. Гагарину инкриминировали нарушение государственной монополии по производству пороха и самовольное формирование особого полка, состоящего из пленных шведов. Один из них – Филипп Иоганн Страленберг впоследствии свидетельствовал о явных сепаратистских устремлениях князя [14, с. 350].
Финальной каплей, инициировавшей повторное расследование в отношении деятельности М. П. Гагарина на губернаторском посту, оказалась авантюра с поисками месторождения золота в Эркете. Последнее послужило поводом к особому вниманию за ходом дознания со стороны Петра I. В результате чего 13 марта 1721 г. на суде сенаторов М. П. Гагарину инкриминировали девять эпизодов преступной деятельности [15, с. 57].
Немаловажную роль в расследовании дела М. П. Гагарина сыграли особые органы – фискальская служба и «майорские» канцелярии, являвшиеся, по мнению Д. О. Серова, принципиально важными сегментами отечественного государственного аппарата [16, с. 100]. Выполняя функции органов надзора и предварительного расследования в начале XVIII столетия, они приняли на себя основную тяжесть борьбы с должностными преступлениями петровской эпохи. При этом многочисленные попытки уголовного преследования высших чиновников оказались фактически безрезультатными [15, с. 53]. Наказание за преступления понесли лишь единицы. Эпизод с разоблачением первого Сибирского губернатора М. П. Гагарина являлся скорее исключением из правил.
По мнению отечественных исследователей, одной из причин этого парадокса являлась объективная неспособность существовавшей судебной системы обеспечить надлежащее рассмотрение заводимых дел [16, с. 251]. В результате жесткие требования царских указов о том, чтобы «нарушителей государственных прав и своей должности казнить смертею натуральной и всего имения лишить» 3 не оказали должного воздействия на созданный в ходе административной реформы бюрократический аппарат. Государственные чиновники не только сумели избежать строгого контроля за своей деятельностью, но и в полной мере унаследовали от царских наместников традиции кормления. Главными особенностями сибирского управления в это время по-прежнему оставались крайняя удаленность от центра и особые полномочия местных бюрократов, предоставлявшие последним практически безграничную власть.
В таких условиях Сибирь, по мнению одного из лидеров областнического движения Петра Михайловича Головачева, оказалась «в наиболее безотрадном положении». Произвол, утверждал автор, «увеличивался прямо пропорционально расстоянию различных многочисленных частей русской земли от местопребывания высшей власти» [17, с. 6].
Неудивительно, что даже показательный процесс над М. П. Гагариным не оказал должного воздействия на представителей сибирской администрации. Указывая на это обстоятельство в своем личном послании Петру I в октябре 1723 г., генерал-лейтенант В. И. де Геннин, сообщал, что в «здешних Сибирских состояниях, и так видна злая пакость, крестьянам бедным разорение от судей, и в городах, которые посланы от Камерирств и земских управителей и в слободах зело тягостно и без охранения; а купечество и весьма разорилось» [18, с. 128].
К рассматриваемому времени наиболее сложная ситуация складывалась в Восточной Сибири, где своеволие царских чиновников приобретало предельно гипертрофированные формы. Здесь использование должностных полномочий в преступных целях являлось характерной чертой деятельности не только местных администраторов, но и тех, кто по роду службы был обязан их контролировать – ревизоров и следователей.
На фактическое отсутствие надзора за действиями сибирского чиновничества указывал Н. М. Ядринцев. Автор утверждал, что «развитие злоупотреблений являлось следствием настолько же громадной власти, сосредоточенной в одних руках, насколько и полной бесконтрольности». В связи с чем, по его мнению, «правители, пока жили в Сибири, не боялись никого и ничего» [19, с. 473]. В значительной степени этому фактору способствовали многочисленные злоупотребления со стороны специальных следователей – доверенных лиц, уполномоченных правительством для контроля и надзора за деятельностью чиновников.
Система специальных поручений, основанная на использовании облеченных особым доверием и широкими полномочиями следователей, как основной инструмент контроля за царскими чиновниками, применялась на протяжении практически всего XVIII столетия. По сведениям Юрия Владимировича Готье, эта система не только пережила Петра I и оказалась гораздо прочнее, нежели созданные им фискалитет и «майорские» канцелярии, но и в конечном итоге стала одним из самых распространенных способов правительственного воздействия [20, с. 104].
Как правило, задачи следственных комиссий и полномочия следователей определялись указами или персональными инструкциями. В некоторых случаях, особенно в Сибири, следователи получали право по своему усмотрению применять пытки. Кроме того, следователь мог отстранить подозреваемого чиновника от должности и сам исполнять его обязанности. «Можно сказать, – отмечал по этому поводу Ю. В. Готье, – полномочия следователей делали из них сверхвластителей в провинции, права, которые они получали над областной администрацией, делали их диктаторами над целой губернией» [20, с. 120].
Именно таким беспощадным диктатором запомнился сибирякам следователь коллежский асессор Петр Никифорович Крылов, прибывший в Иркутск 8 июля 1758 г. для расследования злоупотреблений с питейными сборами и проведения ревизии предприятий винокурения [21, с. 77].
В действительности Крылов являлся доверенным лицом обер-прокурора правительствующего сената Александра Ивановича Глебова и фактически представлял в Иркутской провинции его коммерческие интересы по производству и сбыту алкогольных напитков. Таким образом, уже изначально следователь Крылов был ориентирован не на объективное расследование имеющихся нарушений, а на фактический захват всего винокуренного производства Иркутской провинции и жестокую расправу с теми, кто мог этому помешать.
К указанному времени прибыльные и практически безотходные предприятия по винокурению находились в ведении дворянства. Сенатский указ «О допущении к подрядам на поставку вина на одних помещиков, и о возбранении курить вино другого звания людям» ввел с 19 июля 1754 г. запрет на участие в алкогольном производстве для представителей иных сословий4. Последовавший за ним указ от 15 января 1756 г. и вовсе потребовал уничтожить «все имеющиеся в ведомстве Воеводских канцелярий, Магистратов и Ратуш казенные и купеческие заводы» и окончательно закрепил права на винокурение только за дворянством5.
В Иркутской провинции введенные санкции в большей степени ударили по купеческому сословию, успешно занимавшемуся винокурением с 1727 г [22, с. 216]. Этим фактором и объяснялось нежелание местных купцов уступать доходные предприятия откупщикам генерал-прокурора А.И. Глебова. Последний, используя свое положение в сенате, получил эксклюзивные права на поставку вина в Иркутской провинции и предпринимал все возможное для их реализации.
В 1756 г. Иркутск посетил поверенный Глебова Андрей Евреинов с требованием передачи всех винокуренных предприятий в ведение своего нанимателя. Однако явное нежелание иркутского купечества терять прибыльные предприятия было поддержано вице-губернатором Иваном Петровичем Вульфом и А. Евреинову ответили отказом. В ответ Глебов предоставил сенату донесение «о злоупотреблениях, делаемых по выкурке вина иркутской провинциальной канцелярией, городовым магистратом, корчемной конторой и иркутским купечеством» и инициировал следствие «по случаю не сдачи винокуренных заводов» [23, с. 187].
Следственная комиссия, сформированная для проведения дознания о нарушении правил винокурения, состояла из следователя, секретаря, двух канцеляристов и четырех писцов. Полномочия комиссии и ее задачи оговаривались отдельным сенатским указом от 30 января 1758 г.
Предписание метрополии «о том, чтоб, как оный Магистрат, так и Иркутская канцелярия по присылаемым от того следствия указам и по другим письменным требованиям немедленно исполнение чинил» следователь Крылов предоставил местной администрации уже на следующий день после своего приезда в Иркутск [21, с. 188]. Таким образом, для проведения дознания в Иркутской провинции следователь получал практически неограниченные полномочия. Позже, на основании данного указа Крылов истребовал и вооруженную поддержку. По одним источникам в виде 25 солдат с одним унтер-офицером [23, с. 188], по другим – 77 солдат с тремя унтер-офицерами из Селенгинска [24, с. 655].
Методы, практиковавшиеся в ходе дознания, наиболее подробно описал Петр Ильич Пежемский. По сведениям иркутского летописца, представший изначально перед обывателями, как «честный и благонамеренный чиновник, все поступки которого обнаруживали добрую душу», Крылов на протяжении нескольких месяцев скрупулёзно собирал сведения о наиболее состоятельных иркутянах. «Всем умел делать удовольствие, а через все это узнавал из-под руки: кто как живет, кто богат, кто беден», – отмечали очевидцы тех событий.
Первые месяцы своего пребывания в Иркутске следователь демонстрировал полнейшее безразличие к производству и сбыту хлебного вина. Местные хроники, отразившие особенности работы следственной комиссии в этот период, фиксировали, что «содержатели каштаков (места винокурения – авт.) курили вино, продавали и все шло обычным порядком» [21, с. 83].
Между тем, спустя некоторое время, методы работы столичного дознавателя, так же, как и его отношение к окружающим разительно изменились. Иркутяне отмечали, что «Крылов вдруг переменился в характере, вдался в разные дерзости, жестокости, особенно к купечеству, занимавшемуся содержанием винокуренных заведений» [21, с. 78].
Начало активных следственных действий ознаменовали закупка и последующее изъятие бочки с вином в Карлукском каштаке. Крылов истребовал и опечатал все материалы, касающиеся питейных сборов за 30 лет. На основании проверки ведомостей питейных сборов за период с 1728 по 1758 г. и сопоставления сведений из городового магистрата и провинциальной канцелярии он объявил о выявленных фактах фальсификации данных по продажам вина и, как следствие, обвинил местные власти в значительных хищениях казенных денег. Объявленные следствием убытки казне, по сведениям С. С. Шашкова, составили астрономическую сумму в 829000 руб., вследствие чего Крылов распорядился не выпускать из города ни одного купца [24, с. 656].
По распоряжению Крылова в городе начались аресты, в ходе которых было задержано 74 человека. Среди прочих заковали в цепи и посадили в острог президента Иркутского магистрата Михаила Ивановича Глазунова. В домах у богатейших купцов прошли обыски. Их имущество и товары были опечатаны и находились под караулом. Всех задержанных публично объявили казнокрадами.
В иркутских летописях есть упоминания, что в ходе пыток следователь Крылов лично бил задержанных по щекам и угрозами применения плетей вынуждал к признанию вины. Первым, по сведениям Н.С. Щукина, не выдержал и дал требуемые следствием показания о чрезмерном завышении цен на вино Иркутский бургомистр Николай Бренчалов [23, с. 188]. Это, пишет в своей летописи Пежемский, «подало повод Крылову исполнить свои угрозы над прочими, не сознавшимися; он мучал их в пытках, но никто из терпевших истязания не признался в краже, кроме Михаила и Максима Глазуновых и Василия Ворошилова» [21, с. 79]. Последовали повторные пытки и истязания с дальнейшими признаниями иркутских купцов, осознавших всю бесперспективность сопротивления.
Дольше всех продержался один из богатейших предпринимателей Иркутска купец первой гильдии Иван Степанович Бечевин, известный своими коммерческими проектами и контролировавший с 1749 г. производство и распространение вина в Илимском уезде.
Бечевин не пожелал дать ложные показания и в течение нескольких месяцев подвергался жестоким пыткам. Однако, как пишет современный исследователь Вадим Петрович Шахеров, «будучи поднят на дыбу, пытаясь остановить мучения, вынужден был себя оговорить и пообещать выплатить 15 тыс. руб… под угрозой новых пыток эта сумма увеличилась в два раза» [25, с. 251].
В общей сложности Крылову удалось «выбить» из иркутского купечества 155295 р. 80 к. В подтверждение этого факта Н. С. Щукин приводит список местных предпринимателей с подробным указанием сумм, полученных в ходе пыток. Немаловажную роль в фактическом грабеже иркутского купечества, по сведениям автора, сыграл один из его представителей – купец первой гильдии Василий Яковлевич Елезов, доносивший по собственной воле Крылову, «с кого и какую сумму можно получить посредством застенка и пыток» [23, с. 188]. Он же, в конечном счете, был направлен в Петербург, чтобы повиниться в убытках, якобы нанесенных казне иркутским купечеством.
Между тем, «выбитых» денег Крылову оказалось недостаточно, и он приступил к реализации изъятого у купцов имущества. С этой целью проводились аукционы, где следователь являлся одновременно и оценщиком, и продавцом, и покупателем. В результате, пишет С. С. Шашков, следователю Крылову удалось дополнительно получить 93120 руб. [24, с. 658]. Всего же за время крыловского погрома, по подсчетам купца Алексея Сибирякова, иркутское общество понесло ущерб в размере 300000 руб. [26, с. 305].
Однако негодование иркутян было вызвано не столько открытым и беспринципным вымогательством следователя Крылова, сколько его пренебрежением общепринятыми нормами морали и многочисленными случаями насильственных действий.
Практически безграничные полномочия в условиях полной бесконтрольности со стороны метрополии, дифференцированные низкими морально-нравственными личностными качествами, предопределили не только масштабы, но и особенности противоправной деятельности Крылова. Помимо корыстных устремлений, он регулярно использовал свои властные полномочия для совершения преступлений в области половой неприкосновенности.
«Сладострастие Крылова не знало границ и доходило до зверского неистовства» – писал по этому поводу С. С. Шашков [24, с. 656]. По сведениям иркутских летописцев, домогательствам следователя подвергались и взрослые женщины, и дети. Одной из первых жертв оказалась его соседка, дочь купца Воротилова. Крылов изнасиловал ее и сделал своей любовницей. Если несчастные не сдавались добровольно, то Крылов принуждал их жестокими побоями и телесными истязаниями при помощи своих солдат.
Тяжелее всех пришлось невольным арендодателям Крылова. Семья иркутского купца Ивана Афанасьевича Мясникова, предоставившая по требованию следователя верхний этаж своего дома для его проживания, оказалась заложниками его половой распущенности. «Развратом и гнусностью своих поступков доводил семейство своего хозяина до отчаяния», – сообщали о поведении нового квартиранта Мясниковых иркутские хроники [21, с. 86].
С маниакальным упорством, публично Крылов преследовал старуху – мать купца Ивана Афанасьевича Мясникова. Супруга хозяина дома Дарья Николаевна так же неоднократно подвергалась домогательствам любвеобильного следователя. Угрожая пытками и побоями, Крылов вынуждал главу семейства склонять свою супругу к измене. Кроме того, Н. С. Щукин описывает случай растления Крыловым десятилетней девочки, прислуживающей в доме Мясниковых [23, с. 197].
В конечном счете, по утверждению Пежемского, «в женском поле он поселил такой страх, что старые и малые даже днём боялись ходить по улицам, чтобы не встретиться с Крыловым, прятались от него и бегали, как от страшилища» [21, с. 86]. Сами же крыловские бесчинства нашли свое отражение в иркутских преданиях и воплотились в романе И. Т. Калашникова «Дочь купца Жолобова», вышедшем в свет спустя более полувека после рассматриваемых событий [27, с. 35].
Между тем властные притязания Крылова, который, казалось, совершенно утратил связь с реальностью, распространились на всю Иркутскую провинцию. В апреле 1760 г., будучи в гостях у купца Василия Зайцева, следователь прилюдно обвинил вице-губернатора Ивана Петровича Вульфа в слабости управления и расхищении казны, отобрал шпагу и приказал арестовать. На следующий день, по сведениям Н. С. Щукина, «Крылов циркулярами своими объявил всем местам и официальным лицам иркутской провинции, что он, по непростительной слабости тамошняго вице-губернатора и по единодушной просьбе всех жителей города, сам вступил в управление иркутскою провинциею» [23, с. 199].
Окончательно уверовав в свою исключительность, Крылов приказал изменить государственный герб, располагавшийся на городовой башне. Как пишет С. С. Шашков, «предерзостно прибил жестяную доску с такими на ней литерами: Году 1760, месяца сентября, бытности в Иркутске начальника коллежскаго ассесора Крылова» [28, с. 330].
Вице-губернатор И. П. Вульф и епископ Софроний не преминули воспользоваться оплошностью своего оппонента и сообщили о факте покушения на государственные символы верховным властям. Реакция на дерзкую выходку последовала незамедлительно. 9 ноября 1760 г. в Иркутске получили сенатский указ об аресте Крылова. Зарвавшегося следователя отстранили от дел и посадили под стражу. Впоследствии часть денежных средств возвратили пострадавшим. Вице-губернатор И. П. Вульф получил чин тайного советника. А иркутское общество еще долго пребывало в ошеломлении от преступных деяний «лихого» столичного следователя.
Перипетии «крыловского погрома» со всей очевидностью продемонстрировали уязвимость системы специальных поручений как способа государственного воздействия на сибирскую администрацию. В случае с расследованием предполагаемых злоупотреблений в Иркутске, оно изначально было реализовано в корыстных интересах частного лица. При этом противоправная деятельность следователя Крылова осуществлялась в условиях, когда иркутская администрация и купечество, в силу его особых полномочий, оказались в положении очевидной подчиненности. В такой ситуации Крылов, как должностное лицо, получил не только обширные возможности к совершению преступлений, но и высокие шансы избежать наказания. Таким образом, доверенные лица, облеченные особыми полномочиями для расследования должностных преступлений, оказавшись в специфических условиях Сибири, совершали их сами, зачастую в еще больших масштабах.
Значительная удаленность от центра принятия решений, близость границ Китая, существенные запасы пушнины и бесправность инородческого населения, интегрированные бытовавшими тогда традициями кормления, предопределили особые черты противоправной деятельности сибирского чиновничества. При этом практиковавшиеся способы противодействия должностной преступности в виде частой ротации кадров, особом контроле вывозимого из Сибири имущества и введения жестоких репрессий, очевидно, не давали желаемых результатов.
Отсутствие эффективной системы контроля за деятельностью сибирского чиновничества только усугубляло сложившуюся ситуацию. Без изменения условий, способствовавших распространению должностной преступности, и создания системы юридических ограничений и запретов вышеперечисленные способы не давали должного эффекта. В связи с этим противоправная деятельность губернских чиновников в Восточной Сибири, когда их решения и поступки, связанные с выполнением служебных обязанностей, явно выходили за пределы установленных полномочий и нарушали существовавшие узаконения, получила повсеместное распространение и оказывала существенное воздействие на эффективность местного администрирования.