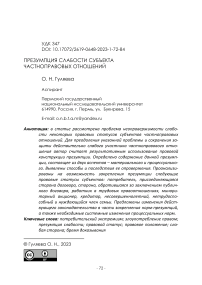Презумпция слабости субъекта частноправовых отношений
Автор: Гуляева О. Н.
Журнал: Ex jure @ex-jure
Рубрика: Частноправовые (цивилистические) науки
Статья в выпуске: 1, 2023 года.
Бесплатный доступ
В статье рассмотрена проблема неопровержимости слабости некоторых правовых статусов субъектов частноправовых отношений. Для преодоления указанной проблемы и сохранения защиты действительно слабого участника частноправового отношения автор считает результативным использование правовой конструкции презумпции. Определено содержание данной презумпции, состоящее из двух аспектов - материального и процессуального. Выявлены способы и последствия ее опровержения. Проанализированы на возможность закрепления презумпции следующие правовые статусы субъектов: потребитель, присоединяющаяся сторона договора, сторона, обратившаяся за заключением публичного договора, работник в трудовых правоотношениях, миноритарный акционер, кредитор, несовершеннолетний, нетрудоспособный и нуждающийся член семьи. Предложены изменения действующего законодательства в части закрепления норм-презумпций, а также необходимые системные изменения процессуальных норм.
Потребительский экстремизм, злоупотребление правом, презумпция слабости, правовой статус, правовое положение, слабая сторона, бремя доказывания
Короткий адрес: https://sciup.org/147239717
IDR: 147239717 | УДК: 347 | DOI: 10.17072/2619-0648-2023-1-72-84
Текст научной статьи Презумпция слабости субъекта частноправовых отношений
П резумпция – это предположение, при котором определенный факт признается соответствующим действительности и влечет правовые по‐ следствия до того момента, пока не будет доказано обратное.
В современных научных работах встречается мнение о необходимости законодательного закрепления презумпции слабости физических лиц в пра‐ воотношениях с профессиональными участниками оборота1. Более того, ряд авторов констатирует факт присутствия в российском праве презумпции сла‐ бости потребителя2. Однако есть и противники данной позиции. Так, по мне‐ нию В. А. Анисимова, сам факт взаимодействия физического лица и субъекта предпринимательской деятельности в отношениях не означает их неравенст‐ ва3, а М. В. Маковеева утверждает, что правовой статус не может заведомо являться слабым4.
По справедливому замечанию В. Ф. Яковлева, «правовое положение» и «правовой статус» – понятия с различным содержанием5: правовой статус, отражая общие черты, опосредуется конкретными правовыми связями, ука‐ зывающими на правовое положение субъекта. А. Ф. Пьянкова полагает, что определение субъекта как слабого должно осуществляться в каждом кон‐ кретном правоотношении6, то есть на уровне правового положения субъекта, а не его статуса. Думается, исследование в каждом судебном деле слабо‐ го/сильного положения его участников процессуально нецелесообразно и приводит к затягиванию сроков рассмотрения. Более того, наличие слабости у субъекта подразумевает не только материально‐правовую сторону, но и процессуальную. Если субъект изначально находится в слабом положении, доказывать данный факт ему тоже будет затруднительно.
Итак, признание определенного правового статуса слабым представля‐ ется допустимым. Однако многообразие общественных отношений не по‐ зволяет неопровержимо утверждать слабость всех тех лиц, которые облада‐ ют подобным правовым статусом. Так, слабость потребителя – это распространенная, но не универсальная характеристика субъекта. Юридиче‐ ская литература богата на исследования злоупотреблений и недобросовест‐ ных действий со стороны потребительского сектора и иных слабых субъектов, подверженных особой защите7.
В научных работах и судебных актах весьма распространены понятия «потребительский экстремизм», «потребительский терроризм», а также про‐ изводные от них. Нельзя не согласиться с В. А. Беловым, что на сегодняшний день данные понятия не имеют научного обоснования и являются скорее жаргонизмами8. Считаем, что подобное терминологическое смешение пуб‐ личного и частного права не позволяет сохранять понятийную точность. Од‐ нако факт наличия злоупотреблений и недобросовестных действий со сторо‐ ны потребителей (и некоторых иных субъектов) видится неоспоримым. В. В. Богдан замечает, что подобные действия приносят убытки профессио‐ нальным контрагентам9. Помимо уже указанных негативных последствий, они приводят к последующей деформации самих правоотношений. Напри‐ мер, в связи с распространенными злоупотреблениями со стороны пациен‐ тов – потребителей медуслуг возник феномен «защитной медицины»10, суть которого сводится к минимизации рисков при оказании услуги.
Для преодоления проблемы неопровержимости слабости правового статуса при сохранении защиты действительно слабого участника частнопра‐ вового отношения результативно, на наш взгляд, использование правовой конструкции презумпции, что обусловлено «возможностью опровержения – имманентного свойства любой презумпции»11.
Отметим, что на сегодняшний день в российском праве отсутствует презумпция слабости потребителя. В ситуации, когда профессиональный контрагент опровергает слабое положение потребителя, никакие правовые последствия не наступают и за потребителем сохраняются те преимущества, которые закреплены в специальном законодательстве. Иными словами, за‐ конодательство о защите прав потребителей основывается на убежденности, а не на вероятностном предположении. Потребитель обладает особым стату‐ сом, однако юридической конструкции презумпции в данном случае не на‐ блюдается. Полагаем, если потребитель фактически не находится в слабом положении, действие принципа защиты слабого субъекта невозможно, а по‐ тому оснований для нивелирования принципа равенства нет12. Налицо, таким образом, предоставление необоснованных льгот и привилегий одной из сто‐ рон правоотношения.
Считаем допустимым распространение предложенной конструкции и на другие правовые статусы субъектов. Соответственно, доктринальный ана‐ лиз презумпции слабости субъекта видится актуальным вопросом частного права.
Исследуемая правовая конструкция подразумевает особое содержание правоотношений, при котором правовое регулирование осуществляется спе‐ циальными императивными нормами. Иными словами, если в отношениях участвует слабый субъект, то общее диспозитивное правовое регулирование, предусмотренное гражданским законодательством, вступает в конкуренцию со специальными императивными нормами. Разрешается данное противо‐ речие в пользу специальных норм. При опровержении презумпции, а именно в случае наличия фактически равных участников, правовое регулирование отношений осуществляется преимущественно диспозитивными началами гражданского права. В частности, в отсутствие слабого положения потребите‐ ля специальные императивные нормы потребительского законодательства не подлежат применению.
Таким образом, материально‐правовой аспект презумпции включает в себя действие специальных императивных норм материального права, на‐ деляющих дополнительными правами слабого субъекта и/или обязанностя‐ ми сильную сторону. К подобным материальным нормам можно отнести ста‐ тьи 426, 428 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ)13, закон «О защите прав потребителей»14, главы 41, 42 Трудового кодекса Рос‐ сийской Федерации (далее – ТК РФ)15 и др.
Процессуально‐правовой аспект презумпции слабости состоит в воз‐ ложении бремени доказывания отсутствия слабого положения субъекта либо обстоятельств, исключающих состав правонарушения или ответственности, на сильную сторону правоотношения.
Во‐первых, это означает, что слабая сторона не должна доказывать свое слабое положение (оно предполагается), а сильная сторона вправе оп‐ ровергнуть презумпцию. Способы такого опровержения допустимо класси‐ фицировать на две группы, а именно:
-
1) предоставление доказательств наличия у слабой стороны возможно‐ стей воздействия на правоотношение своей волей и в своем интересе. На‐ пример, продавец/производитель может предоставить доказательства того, что потребитель обладал достаточным количеством знаний, информации, опыта и других ресурсов, позволявших ему в полной мере реализовывать свои интересы в правоотношении;
-
2) предоставление доказательств, подтверждающих активные действия сильной стороны, которые были направлены на «выравнивание» участников правоотношения, – например, всестороннее и неоднократное разъяснение условий и правовых последствий сделки. В. А. Белов справедливо утвержда‐ ет, что проактивное поведение сильной стороны отвечает признакам добро‐ совестного поведения и потребностям оборота16.
Во‐вторых, процессуально‐правовой аспект презумпции включает в се‐ бя следующую альтернативу: если сильная сторона не предоставляет доста‐ точных доказательств для опровержения презумпции, целесообразно воз‐ ложение на нее бремени доказывания обстоятельств, исключающих состав правонарушения или ответственность. В частности, она должна доказать, что полностью проинформировала акционера о деятельности общества, предос‐ тавила потребителю качественный товар (работу, услугу), не понуждала к увольнению беременную работницу и т.п.
На сегодняшний день подобное распределение бремени доказывания характерно для потребительских отношений (бремя доказывания обстоя‐ тельств, освобождающих от ответственности за неисполнение либо ненад‐ лежащее исполнение обязательства, в том числе за причинение вреда, лежит на продавце17) и отчасти для трудовых (обязанность доказать наличие закон‐ ного основания и порядка увольнения по инициативе работодателя возлага‐ ется на работодателя18).
Считаем, что данное правовое регулирование недостаточно. В частно‐ сти, в ситуации увольнения по инициативе работника при отсутствии добро‐ вольности волеизъявления бремя доказывания возлагается на работника. Так, Н. Сиверская отмечает, что если беременная сотрудница докажет, что работодатель принуждал ее к увольнению, то соответствующие исковые тре‐ бования будут удовлетворены19. В условиях конституционной свободы труда любой работник вправе уволиться по собственной инициативе, в том числе беременная женщина. Однако данные действия не являются широко распро‐ страненными, в связи с чем представляется необходимым перераспределить бремя доказывания с беременной работницы на работодателя.
Судебная практика содержит примеры распределения бремени дока‐ зывания по основанию сильной позиции одного из участников правоотноше‐ ния. Так, Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в Пермском крае возложил обязанность доказывания обстоятельств принадлежности спорного участка на ответчика – ресурсоснабжающую организацию, в связи с тем что она является профессиональным участником гражданского оборота и соот‐ ветственно сильной стороной20.
Предложенное распределение бремени доказывания требует соответ‐ ствующей процессуальной нормы. С учетом системного реформирования законодательства предлагаем внести изменения, дополнив пункт 3 статьи 56 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации21 и пункт 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации22 в следующей редакции:
«В случае участия в спорном правоотношении слабого субъекта бремя доказывания обстоятельств, освобождающих от ответственности, возлагается на соответствующего сильного участника правоотношения.
В случае если слабость участника правоотношения является неочевид‐ ной, суд вправе применить меры по перераспределению обязанности дока‐ зывания определенных им обстоятельств».
Наделение суда правом по собственной инициативе перераспределять бремя доказывания связано с невозможностью правового регулирования всех общественных отношений. При отсутствии презумпции слабости в мате‐ риальной норме в отношении субъекта, который фактически находится в слабом положении, суд вправе по собственной инициативе в целях правиль‐ ного рассмотрения дела переместить доказательное бремя.
Актуальным примером невозможности закрепления презумпции сла‐ бости в материальной норме представляется слабость миноритариев в кор‐ поративных правоотношениях. Слабость данной категории лиц отмечена су‐ дебной практикой23, а также доктриной права24. Предпосылкой к форми‐ рованию презумпции видится наличие в законодательстве перераспре‐ деления доказательного бремени на сильную сторону правоотношения (ст. 84.8 Федерального закона «Об акционерных обществах»25: в случае несо‐ гласия владельца ценных бумаг с ценой лицо, выкупившее акции, наделяется обязанностью доказывания выплаты необходимой денежной суммы). Одна‐ ко, учитывая факт отсутствия легального понятия «миноритарный акционер» (которое фактически является оценочным), введение презумпции примени‐ тельно к неизвестному не представляется возможным. Перераспределение судом по собственной инициативе бремени доказывания в корпоративных правоотношениях видится ситуативным решением поднятой проблемы до момента соответствующего развития корпоративного законодательства.
Опираясь на представления профессора О. А. Кузнецовой, считаем не‐ обходимой разработку материальных норм‐презумпций в следующей струк‐ турной организации: условие действия (гипотеза), непосредственно само предположение (диспозиция), а также элемент возможного опровержения (пока не доказано иное)26.
Предлагаем внести изменения в действующее законодательство, до‐ полнив абзац 3 преамбулы закона «О защите прав потребителей» текстом следующего содержания: «Потребитель является слабым субъектом, пока не доказано иное».
По замечанию А. Ф. Бакулина и А. В. Кузьминой, переговорная слабость присоединяющейся стороны презюмируется. Позволим себе не согласиться с указанным мнением. Норма‐презумпция, как было отмечено ранее, содер‐ жит три элемента: гипотезу, диспозицию‐презумпцию и контрпрезумпцию. Структура нормы абзаца 1 пункта 2 статьи 428 ГК РФ не отвечает указанным требованиям: если отношения опосредованы договором присоединения, который хотя и не противоречит закону, но лишает сторону обычно предос‐ тавляемых прав, ограничивает ответственность второй стороны либо содер‐ жит иные обременительные условия, то присоединяющаяся сторона вправе потребовать расторжения или изменения договора. Тот факт, что в данном случае опровергаться будет гипотеза, а не предположение, позволяет утвер‐ ждать, что данная норма является регулятивной.
Таким образом, предлагаем внести изменения в действующее законо‐ дательство, дополнив пункт 3 статьи 428 Гражданского кодекса РФ нормой‐ презумпцией в следующей редакции: «Присоединяющаяся к договору сто‐ рона предполагается слабой в правоотношении, пока не доказано иное».
Договор присоединения частично отвечает признакам публичного до‐ говора (ст. 426 ГК РФ). В обоих видах договоров присутствует слабая сторона, которая не имеет либо имеет незначительное влияние на формирование ус‐ ловий сделки. Предлагаем внести изменения в действующее законодатель‐ ство, дополнив пункт 3 статьи 426 Гражданского кодекса Российской Федера‐ ции нормой‐презумпцией в следующей редакции: «Лицо, обратившееся для заключения публичного договора, предполагается слабой стороной в правоотношении, пока не доказано иное».
Следует обратить внимание на правовое регулирование трудовых от‐ ношений, в которых участвует слабый субъект. Как ранее отмечалось, в науч‐ ной литературе повсеместно указывается на злоупотребление правами бе‐ ременными работницами. Необходимость особой защиты данной категории субъектов представляется неоспоримой, а потому общепринято рассматри‐ вать беременную женщину как слабую сторону трудового договора27. Однако
_________________________________ ЧАСТНОПРАВОВЫЕ (ЦИВИЛИСТИЧЕСКИЕ) НАУКИ тот факт, что увольнение беременной женщины по инициативе работодателя допустимо исключительно в двух случаях, не способствует эффективному вы‐ полнению обязанностей работником. Судебная практика преимущественно защищает слабого субъекта, опираясь на нормы материального права, что делает положение работодателя уязвимым. По мнению С. В. Степанова, рас‐ сматриваемые правоотношения характеризуются несправедливостью и дис‐ балансом28. Указанные факты обусловливают необходимость введения пре‐ зумпции слабости беременных работниц.
Действительно, особая защита в трудовых правоотношениях беремен‐ ных женщин, а также лиц с семейными обязанностями (ст. 261 ТК РФ) акту‐ альна и востребована. Однако введение презумпции в отношении указанной категории видится полумерой. Правовой статус работника в целом является слабым, а потому требующим соответствующего правового регулирования. Верховный Суд РФ указывает на необходимость учета слабого положения работника при применении норм материального права29.
Распределение бремени доказывания на работодателя поспособствует активным действиям с его стороны по соблюдению всех гарантий, предостав‐ ляемых трудовым законодательством в отношении каждого работника. При этом презумпция сохранит возможность опровержения предположения, до‐ пускающего особое применение материального права. В частности, дополни‐ тельные гарантии работников предусмотрены статьей 393 ТК РФ, согласно ко‐ торой работники освобождаются от уплаты пошлин и судебных расходов. Верховный Суд РФ расширительно толкует данную норму, указывая на ее при‐ менение вне зависимости от результатов рассмотрения дела (в том числе в случае частичного или полного отказа в требованиях30). Слабость положения работника предопределяет подобное решение Верховного Суда РФ, однако думается, что в случае отсутствия данной характеристики субъекта подобные привилегии становятся необоснованными. Поэтому предлагаем дополнить статью 56 Трудового кодекса РФ абзацем 3 в следующей редакции: «Работник предполагается слабой стороной трудового договора, пока не доказано иное».
Из принципов семейного права (ст. 1 Семейного кодекса РФ)31 и поло‐ жений юридической доктрины32 следует, что несовершеннолетние, нетрудо‐ способные и нуждающиеся члены семьи являются слабыми субъектами. Счи‐ таем, что допустимость опровержения слабости данных субъектов не соотно‐ сится с общим направлением развития семейного законодательства, а также с Конституцией РФ. Современное правовое регулирование семейных право‐ отношений в первую очередь выполняет охранительную функцию путем предоставления широкого спектра прав и гарантий слабым субъектам право‐ отношения и лишь во вторую очередь регулирующую, что обосновывается спецификой используемых при взаимодействии субъектов внеправовых кате‐ горий, таких как «любовь», «уважение». Исходя из этого формирование пре‐ зумпции слабости несовершеннолетних, нетрудоспособных и нуждающихся членов семьи не представляется необходимым.
Другой широкой группой слабых субъектов являются кредиторы в обя‐ зательственных правоотношениях. Кредитор как лицо, обладающее правом требовать исполнения от должника, имеет более слабую позицию, так как находится в зависимости от чужих действий по получению того, что ему пола‐ гается по закону. Наиболее последовательным приверженцем данной пози‐ ции выступает С. А. Хохлов33.
Представляется, что разнообразие обязательств и их распространен‐ ный двусторонний характер не позволяют зафиксировать слабость данных субъектов на уровне общего правового регулирования обязательственных отношений. При этом законодатель наделяет кредиторов широким спектром полномочий в отношениях несостоятельности (банкротства), что обусловли‐ вается их наиболее уязвимым положением в указанной ситуации. Думается, введение презумпции в отношении кредиторов не станет результативным в связи со смешанным характером института несостоятельности (банкротства), который более тяготеет к публично‐правовому регулированию.
Законодательное закрепление презумпции слабости рассмотренных субъектов частноправовых отношений направлено на гармонизацию законо‐ дательства путем обоснования наличия дополнительных материальных и процессуальных прав слабых субъектов, а также на выделение данных лиц в ограниченный перечень, что позволяет участникам оборота быть более ос‐ мотрительными, а судьям – отслеживать их фактическое положение.
Подведем итог исследованию.
Презумпция слабости субъекта частноправового отношения – это за‐ крепленное в правовой норме опровергаемое предположение о слабости субъекта правоотношения, содержательно состоящее из двух аспектов: ма‐ териально‐правового, включающего использование специальных императив‐ ных норм материального права, которые наделяют дополнительными пра‐ вами слабого субъекта и (или) обязанностями сильную сторону, и процессу‐ ально‐правового, состоящего в возложении бремени доказывания отсутствия слабого положения стороны либо обстоятельств, исключающих состав пра‐ вонарушения или ответственность, на сильную сторону правоотношения.
Опровержение презумпции подразумевает невозможность примене‐ ния специального материального и процессуального правового регулирова‐ ния отношений и допускается двумя способами, а именно: предоставлением доказательств наличия у слабой стороны возможностей воздействия на пра‐ воотношение своей волей и в своем интересе либо предоставлением доказа‐ тельств, подтверждающих активные действия сильной стороны, которые бы‐ ли направлены на «выравнивание» участников правоотношения.
Доказана необходимость законодательного закрепления презумпции слабости следующих субъектов частноправовых отношений: потребителей, присоединяющейся стороны договора, стороны, обратившейся за заключе‐ нием публичного договора, и работника в трудовых правоотношениях.
Список литературы Презумпция слабости субъекта частноправовых отношений
- Анисимов В. А. Теоретические проблемы определения основы правового статуса потребителя // Власть закона. 2017. № 2. С. 106-114.
- Бакулин А. Ф. Судебная защита слабой стороны предпринимательского договора // Судья. 2019. № 8. С. 20-27.
- Белов В. А. Виды требований потребителей: теоретико-практический анализ // Закон. 2021. № 9. С. 33-41.
- Белов В. А. Правовая сущность понятий «потребитель» и «слабая сторона» в гражданских правоотношениях // Lex russica (Русский закон). 2018. № 6. С. 26-44.
- Богдан В. В. Модернизация Закона РФ «О защите прав потребителей» должна быть сбалансированной: к вопросу о необходимости внесения изменений и дополнений // Актуальные проблемы российского права. 2013. № 2. С. 135-142.
- Брюхина Е. Р., Третьякова Е. С. Права женщин в контексте универсальных, региональных и национальных (российских) стандартов и механизмов защиты прав человека // Вестник Пермского университета. Юридические науки. 2021. Вып. 53. С. 516-539.
- Гуляева О. Н. Принцип равенства и защиты слабого субъекта правоотношения: межотраслевой взгляд // Власть закона. 2022. № 3. С. 151-161.
- Защита прав потребителей финансовых услуг / [Ю. Б. Фогельсон, М. Д. Ефремова, В. С. Петрищев и др.]; отв. ред. Ю. Б. Фогельсон. М.: Норма: ИНФРА-М, 2010.
- Кузнецова О. А. Презумпции в гражданском праве. 2-е изд., испр., доп. СПб.: Юрид. центр - Пресс, 2004.
- Маковеева М. В. Слабый субъект правоотношения как более уязвимая сторона договора // Современная юриспруденция: актуальные вопросы, достижения и инновации: сб. ст. Междунар. науч.-практ. конф. (25 сентября 2017 г., Пенза). Пенза: МЦНС «Наука и Просвещение», 2017. С. 53-55.
- Матейкович М. С. Медицинская помощь, медицинские услуги и права потребителей // Судья. 2018. № 2. С. 38-42.
- Михеева Л. Ю. О социальном государстве, патернализме и слабой стороне гражданского правоотношения // Гражданское право социального государства: сб. ст., посвящ. 90-летию со дня рождения проф. А. Л. Маковского (19302020) / отв. ред. В. В. Витрянский, Е. А. Суханов. М.: Статут, 2020. С. 37-51.
- Ожегова Г. А. К понятию «потребительский экстремизм» // Юрист. 2014. № 14. С. 15-19.
- Пьянкова А. Ф. Способы защиты прав слабой стороны по договору присоединения // Защита гражданских прав: избранные аспекты: сб. ст. / под ред. М. А. Рожковой. М.: Статут, 2017. С. 57-80.
- Сиверская Н. Можно ли «настроить» работника на увольнение, не нарушая закон? // Практическая бухгалтерия. 2020. № 10. С. 36-44.
- Степанов С. В. Расторжение трудового договора с беременными: упущения законодателя и перегибы правоприменителя // Трудовое право в России и за рубежом. 2020. № 3. С. 48-51.
- Усольцев Е. Ю. Злоупотребление правом со стороны потребителя: постановка проблемы и поиск ее решения // Юрист. 2021. № 4. С. 41-45.
- Ульянова М. В. Осуществление и защита нетрудоспособных и нуждающихся членов семьи // Семейное и жилищное право. 2022. № 3. С. 20-25.
- Яковлев В. Ф. Гражданско-правовой метод регулирования общественных отношений. 2-е изд., доп. М.: Статут, 2006.