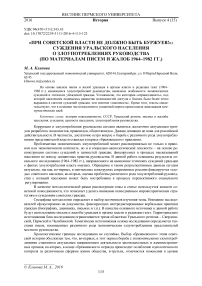"При советской власти не должно быть буржуев!": суждения уральского населения о злоупотреблениях руководства (по материалам писем и жалоб 1964-1982 гг.)
Автор: Клинова М.А.
Журнал: Вестник Пермского университета. История @histvestnik
Рубрика: Советское общество: социальные контракты и оппозиции
Статья в выпуске: 4 (35), 2016 года.
Бесплатный доступ
На основе анализа писем и жалоб уральцев в органы власти и редакции газет (19641982 гг.), касающихся злоупотреблений руководства, выявлены особенности экономических суждений и этических убеждений граждан. Установлено, что категория «справедливость», под которой населением понималось равенство возможностей доступа к благам, была более четко выражена в системе суждений граждан, чем понятие «законность». Кроме того, тексты свидетельствуют, что в сознании части населения в указанный период происходила девальвация коммунистических идей.
История повседневности, ссср, уральский регион, письма и жалобы населения, суждения, ценности населения, злоупотребления руководства
Короткий адрес: https://sciup.org/147203755
IDR: 147203755 | УДК: 94(470+511):343.43 | DOI: 10.17072/2219-3111-2016-4-115-123
Текст научной статьи "При советской власти не должно быть буржуев!": суждения уральского населения о злоупотреблениях руководства (по материалам писем и жалоб 1964-1982 гг.)
Коррупция и злоупотребления руководства сегодня являются достаточно актуальным трендом разработок экономистов, правоведов, обществоведов. Данная девиация не нова для российской действительности. В частности, достаточно остро вопрос о борьбе с различного рода злоупотреблениями представителей власти ставился в период «брежневского» правления.
Проблематика экономических злоупотреблений может рассматриваться не только в правовом или экономическом контексте, но и в социально-аксиологической плоскости – на основе реконструкции системы суждений и ценностей граждан, фиксируемых в процессе высказываний населения по поводу девиантных практик руководства. В данной работе освещены результаты локального исследования (1964–1982 гг.), направленного на выявление этических суждений уральцев о фактах злоупотребления власть имущих. Обращение к таким ретроспективным данным сегодня актуально, так как, во-первых, в ментальных конструктах современных россиян фиксируются «следы» советского наследия, во-вторых, оценка проблемы различного рода злоупотреблений руководства с позиций населения может быть востребована в процессе перспективного социального регулирования.
В качестве методологической рамки рассмотрения темы в статье используется концепт советской повседневности, что позволяет уделить внимание повседневным мировоззренческим стратегиям и суждениям советских граждан.
Специфика методологии определяет и выбор источников изучения темы. Внимание исследователей сфокусировано на документах, фиксирующих неотредактированные вербальные практики граждан (биографиях, дневниках, письмах и т.п.). В качестве основного источника в данной работе будут использованы письма и жалобы уральцев в органы власти и редакции газет. Территориально источниковая база исследования ограничивается тремя областями Уральского региона – Свердловской, Пермской и Челябинской. Тематически источниковая основа исследования определяется текстами писем, посвященных различного рода экономическим злоупотреблениям представителей местного руководства.
Хронологические границы исследования не случайны. Выбор «брежневского» этапа советской истории обусловлен тем, что, во-первых, в этот период борьба с экономическими злоупотреблениями становится актуальным направлением деятельности законодательных и административных органов, во-вторых, в конце «брежневского» периода происходит ослабление идеологического контроля за различными сферами жизни общества, в-третьих, отмечаются изменения в уровне
жизни населения, связанные как с ростом благосостояния, так и с обострением проблемы товарного дефицита.
В данной статье мы попытаемся на основе анализа писем и жалоб уральского населения, направленных в 1964–1982 гг. в органы власти и редакции газет и касающихся проблематики экономических злоупотреблений власть имущих, реконструировать форму обращения граждан к властям, выделить характерные структурные элементы текстов писем и жалоб, выявить особенности ценностного пространства уральцев, специфику их этических убеждений и суждений о фактах злоупотреблений.
С целью структурирования материала и повышения информативности исследования были выделены три аксиологические категории, маркирующие пространство суждений адресантов: законность, справедливость, советскость, или идеологическая идентичность - условно обозначенная категория, определяемая этическими постулатами и идеологическими императивами, транслируемыми советским дискурсом. Выделение этих категорий позволяет обозначить приоритетные линии, в соответствии с которыми строилась аргументация и высказывались суждения адресантов, а также определить относительную востребованность населением заявленных аксиологических полей.
Экономические злоупотребления и хищения государственной собственности на протяжении всего периода существования Советского государства маркировались как преступления, хотя эти явления сохранялись в советской реальности. О распространенности данных девиантных практик в Уральском регионе красноречиво свидетельствуют материалы регионального статуправления. В аналитической записке Статуправления Свердловской области сообщается: «За 1969 год установлено 240 случаев хищений» (ГАСО. Ф. 1813. Оп. 26. Д. 29. Л. 1). Но уже через год в аналогичном отчете фигурирует значительно более существенная цифра – 5075 случаев хищения государственного имущества (ГАСО. Ф. 1813. Оп. 3. Д. 272. Л. 6). О динамике данных явлений можно судить по результатам деятельности ОБХСС Свердловской области: число уголовных дел, возбужденных по фактам хищения, увеличилось с 620 в 1968 г. до 776 в 1972 г. (ГАСО. Ф. 2097. Оп.1. Д.573. Л.1–7).
Рост числа случаев хищений вызвал увеличение количества писем и жалоб граждан в органы власти с просьбой «призвать к ответу» руководителей предприятий и учреждений, причастных к должностным злоупотреблениям и хищениям социалистической собственности. Следует отметить, что в данных девиантных практиках участвовали не только руководящие работники, но авторы писем в органы власти, затрагивая проблему злоупотреблений, преимущественно освещают события, где фигурируют «злоупотребляющие» руководители.
В жалобах на злоупотребления руководства презентация субъекта (пишущего) представлена минимально. Информация об адресанте ограничивается фамилией, но зачастую текст остается анонимным. По всей видимости, это объясняется как направленностью текста (не прошением о чем-то, а обличением чьей-либо деятельности), так и боязнью возможных санкций по отношению к автору жалобы.
Важными структурными элементами текстов жалоб являются описание проступка и характеристика нарушителя.
Адресанты приводят данные о девиантной экономической деятельности секретарей районных парторганизаций, председателей городских и районных Советов, директоров, их заместителей и др. Злоупотреблением, часто фиксируемым в текстах жалоб, является различного рода «самообеспечение» руководителей за счет предприятий: «…по доверенности, выписанной на имя экспедитора … в торге получил тахту, пылесос и сервант и все это увез к себе на квартиру да прихватил еще и письменный стол на базе треста» (1965 г.) (ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 161. Д. 104. Л. 92); «…на базе ОРСа сменилось три зав. базой и они были один одного лучше. Приезжали в посёлок с парой чемоданов в руках, прижившись и присмотревшись, что контроля за ними строгого нет, начинали рвать куски для поживы всякими усушками, утрусками, боем и порчей продуктов. Прожив год или полтора, они улетели в тёплые края уже не с парой чемоданов в руках, а вывозили добро машинами и грузили в специально купленный вагон» (1967 г.) (ГАСО. Ф. Р 88. Оп. 2. Д. 907. Л 18).
Еще одним видом нарушений, отмеченным адресантами, было использование руководителями служебного положения при распределении различных ресурсов и благ. Объектом распределения могла являться земля: «…отвел землю (в удобном месте, отобрав ее у железнодорожников) и раздал одному начальству города» (1971 г.) (ЦДООСО. Ф. 4. Оп. 75. Д. 123. Л. 159). Также важным ресурсом был жилищный фонд: «…незаконно получил двухкомнатную квартиру, обменял ее на пятикомнатный особняк-коттедж общей площадью около 100 кв. метров» (1974 г.) (ЦДООСО. Ф. 4. Оп. 83. Д. 9З. Л.4); «гаражи они построили не только себе, но и детям, квартиры получили на расширение на себя и на своих детей» (1982 г.) (ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 204 Д. 605. Л. 328).
В качестве важного структурного элемента текстов выступает характеристика нарушителя. Особенностью текстов жалоб советских граждан является детальность описания личностей злоупотребляющих руководителей. Порой их характеристика дается через воспроизведение семейных отношений, взаимодействий в коллективе и других событий, которые могут иметь достаточно косвенное отношение к самому предмету жалобы. При описании личностных пороков нарушителя адресантами используются исключительно негативные коннотации: «…неимоверно груб и сквернослов до невозможности … руководит совершенно без авторитетно как перед коллективом, а также и среди большинства организаций и их руководителей» (ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 161. Д. 104. Л. 93), «нерадивый и беспечный … малоопытный, непринципиальный, идейно недостаточно подготовленный» (ЦДООСО. Ф. 4. Оп. 75. Д. 195. Л. 201).
Сосредоточение внимания на личностных характеристиках, на наш взгляд, не случайно. В советском дискурсе достаточное внимание уделялось конструированию личности. Само построение коммунистического будущего предполагало не только экономические и политические изменения, но и формирование особого типа человека – идейного, социально ответственного, имеющего высокие моральные качества. Транслируемые советским дискурсом перфекционистские посылы в отношении личностного конструирования способствовали формированию достаточно категоричных представлений о реализации личности в социуме. Предполагалось, что советский индивид должен был развиваться, приближаясь к нравственному идеалу – «социалистическому типу личности». Оценку уровню личностного развития должен был дать коллектив в ходе обсуждения на собрании проявлений, поступков и проступков личности. На наш взгляд, детальная характеристика в текстах жалоб личностей злоупотребляющих руководителей и освещение их проступков, по сути, являются проекцией практики коллективного «обсуждения» и «обличения», реализуемой в СССР на собраниях коллективов разного уровня. Фиксация в текстах жалоб указанных форм подтверждает верность гипотезы О.В. Хархордина о распространении в 1960-е гг. практик официальных моделей коллективов в более широких социальных слоях и неформальных группах [ Хархордин , 2002, с. 397–398].
Перейдем к содержательному анализу текстов писем в соответствии с выделенными категориями.
В отношении категории законность обращает на себя внимание отсутствие в текстах жалоб уральцев упоминания конкретных законодательных норм, нарушенных руководителями, что могло бы служить основанием для привлечения их к ответственности. Авторы писем скорее «намекают» на незаконность действий руководства, порой оперируя выражениями, достаточно далекими от формулировок юридических норм: «… а надо бы детально проверить деятельность З., так как его “рыльце” в изрядном “пушку”. Не умывает ли он руки, так как сам-то слишком не чист на руку» (1965 г.) (ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 161. Д. 104. Л. 94); «…прошу вашего вмешательства в это дело, дать кое-кому по заслугам». (1967 г.) (ГАСО. Ф. Р-88. Оп. 2. Д. 909. Л. 166). Приводимые примеры позволяют заключить, что в целом уровень правосознания уральского населения в исследуемый период был достаточно низким. На наш взгляд, отсутствие в текстах писем хотя бы упоминаний законодательных норм свидетельствует не только об их незнании населением, но и об общем отношении граждан к законодательным императивам. В обыденном понимании граждан законы являлись всеобщими унифицированными нормами, но не достаточно чувствительными к индивидуальным житейским перипетиям отдельных людей. Согласно исследованиям Ю.А. Левады советский человек имел специфическое отношение к жестко определенным законодательным императивам: «он приспосабливается к социальной действительности, ища допуски и лазейки в ее нормативной системе, т.е. способы использовать в собственных интересах существующие в ней "правила игры", и в то же время – что не менее важно, – постоянно пытаясь в какой-то мере обойти эти правила» [Левада, 2000, с. 19]. В целом можно утверждать, что в иерархии мировоззренческих ценностей уральцев категория законности не занимала приоритетного положения. Как замечает по этому поводу М.Н Жданкин в письме в редакцию газеты «Советская Россия»: «Наши начальники и руководители строят свою работу как им выгоднее, поэтому мне тоже приходится не верить в наши законы» (1967 г.) (ГАСО. Ф. Р 88. Оп. 2. Д. 907. Л. 18).
Что касается аксиологической категории справедливость, то в подавляющем количестве текстов жалоб рассуждения адресантов об экономических злоупотреблениях руководителей выстроены исходя из этой этической категории, предполагающей не столько правовую, сколько моральную оценку действий власть имущих. Под данной категорией населением в первую очередь понималось равенство в распределении благ. Об этом пишут в своем письме в обком КПСС врачи ветеринарной станции г. Свердловска: «Существует ли порядок и законность в распределении жилья в городе? … Это самый больной вопрос в жизни нашего коллектива и подобные при распределении жилья факты подрывают веру в справедливость, наносят большую моральную травму» (1974 г.) (ЦДООСО. Ф.4. Оп. 83. Д. 9З. Л. 5).
Авторы в жалобах стремятся указать на несправедливость , т.е. на социальное, имущественное неравенство, на нарушение его в снабжении и обеспечении граждан разных категорий. Так, автор анонимного письма (житель с. Байкалово Свердловской области) рассуждает о деятельности районных руководителей: «Ставят себе сено на лучших сенокосах и руководители района, вернее ставят им люди … они только коровушек своих кормят да молочко даровое попивают, а попьет ли рабочий на заводе или ткачиха на фабрике молоко, их, видимо, мало беспокоит» (1971 г.) (ЦДО-ОСО. Ф. 4. Оп. 75. Д. 195. Л. 201). Схожие суждения о нарушении равенства, отсутствии справедливости изложены в анонимном письме жительницы г. Чусовой в газету «Правда»: «…коммунисты отовариваются отдельно в своем буфете, вечером, чтобы народ не обратил внимания … они нужды не видят, что им нужно, им привезут в буфет на машине, они купят, а как быть простому народу» (1980 г.) (ПермГАНИ. Ф. 105. Оп. 326. Д. 45. Л. 18). Указание на имущественное неравенство находим в жалобе свердловских рабочих: «Мы рабочие компрессорного завода видим, как понастроили хоромины дачи на берегу нашего пруда … новые буржуи появились на какие средства – все уваро-вано у нас рабочего государства!» (1972 г.) (ГАСО. Ф. Р 88. Оп. 2. Д. 1705. Л. 77).
Во всех приведенных случаях рассуждения о несправедливости строятся на сопоставлении и даже на противопоставлении социальных групп и категорий населения: руководители района – рабочий, ткачиха; коммунисты – простой народ; рабочие – буржуи. Использование антитезы позволяет достичь цели письма – по возможности более ярко отобразить факты нарушения равенства и социальной справедливости. В письме И.И. Иванова, адресованном первому секретарю Свердловского обкома КПСС Б.Н. Ельцину, данное противопоставление максимально сжато и гиперболизировано в риторическом вопросе: «Почему одним все, другим ничего?» (1980 г.) (ЦДООСО. Ф. 4. Оп. 98. Д. 149. Л. 96 об.).
Суждения, построенные на контрасте и антитезе, были характерны для советского идеологического и информационного пространства [ Купина , 2005, с. 6–15]. Сопоставления и противопоставления широко представлены в текстах лозунгов и риторике официального дискурса: социализм – капитализм, рабочие – буржуазия и т.п. При этом данные понятия четко определены в координатах «свой–чужой», «хороший–плохой». Тексты писем и жалоб свидетельствуют о том, что антитеза широко использовалась населением на вербальном уровне, что обеспечивало распространение существующих клише в различных по тематике дискурсах. Данный факт подтверждает верность вывода Б.А. Грушина, основанного на материалах социологических опросов населения, о значительной зависимости массового сознания россиян от коммунистической идеологии и пропаганды [ Грушин , 2006, с. 845].
В ходе анализа категории справедливости следует обратить внимание на то, что адресанты, рассуждая об экономических нарушениях руководства, описывают детали, которые играют немаловажную и даже символическую роль. Одним из таких символов является образ стены или забора . Например, рабочие компрессорного завода г. Свердловска в коллективной жалобе пишут: «…понастроили хоромины дачи на берегу нашего пруда огородились забором, туда не подойди … берегом и прудом должны пользоваться все мы, а не хапуги» (1972 г.) (ГАСО. Ф. Р 88. Оп. 2. Д. 1705. Л. 77). Описанию стены уделено внимание в коллективной жалобе жителей г. Среднеураль-ска на заместителя начальника управления трестом Уралэнергострой: «Вокруг коттеджа возвел “крепостную стену” высотой в 2,5 метра, низ которой сделал железобетонным» (1974 г.) (ЦДО-ОСО. Ф.4. Оп. 83. Д. 9З. Л. 5), а также в жалобе жителей г. Нижний Тагил: « …построил себе … дом … с гаражом и высокой оградой» (1971 г.) (ЦДООСО. Ф.4. Оп. 75. Д.123. Л. 159).
Образ стены, воспроизводимый адресантами, на наш взгляд, может трактоваться как своеобразный символ советской социальной дифференциации (несправедливости) – как барьер, с помощью которого соседи с более высоким имущественным и социальным статусом отгораживаются от менее успешных. Факты возведения «заборов» и «крепостных стен» вызывали раздражение граждан, воспринимаясь как нарушение социального равенства, соблюдение которого официально декларировал советский дискурс. В 1960–1970-е гг. в СССР уже была легитимирована возможность существования у советского человека приватного, частного пространства, но его наличие не должно было разрушать идею равенства, т. е. частное не должно было быть умышленно отгороженным стеной. В обыденном сознании советского человека наличие заборов было допустимо на уровне «человек–государство», когда нужно было защитить тайны режимных предприятий или имеющуюся социалистическую собственность от посторонних глаз. Но на уровне «человек–человек» заборам и крепостным стенам не должно было быть места. Их наличие предполагало заносчивость и лукавство отгораживающихся (которым, вероятно, было что скрывать). В контексте жалоб граждан указанная практика определялась через негативные коннотации.
В текстах писем фиксируется отрицательное отношение адресантов к местам, доступ в которые или пользование которыми предполагало определенный статус. Наличие таких локусов в советском социальном пространстве также воспринималось населением как нарушение социального равенства, и это отношение выражалось в характерных обозначениях-названиях. Так, из анонимного письма членов коллективного сада в г. Нижний Тагил мы узнаем, что «удобное место», где земли были розданы только начальству города, «в простонародии прозвано ”Барская поляна”», а земли на территории лесхоза, занятые партийным руководством, обозначаются не иначе как «поместья» (1971 г.) (ЦДООСО. Ф. 4. Оп. 75. Д. 123. Л. 159). Жительница г. Чусовой в своем письме указывает на местное название советского учреждения: «Горком партии что-то не очень беспокоит положение в городе, у нас его так и называют “Белый дом”» (1980 г.) (ПермГАНИ. Ф. 105. Оп. 326. Д. 45. Л. 18).
Судя по интонации, подобные названия-ярлыки можно назвать в большей степени ироничными, чем агрессивно-недоброжелательными. В то же время в них достаточно удачно схвачена специфика определяемых явлений – через недвусмысленный намек на их девиантность и несоответствие нормам. Обращает на себя внимание механизм стигматизации, который реализуется путем проецирования обозначаемых понятий в досоветское капиталистическое прошлое (с его сословным неравенством) либо посредством проведения прямых параллелей с современным авторам капиталистическим миром. Такое конструирование ярлыков позволяет презентовать обозначаемые явления как сущностно чуждые советской действительности. Чужеродность обличаемых адресантами явлений в текстах писем обозначается не только через намеки-ярлыки, но и прямым текстом. В письме М.Н. Жданкина критика деятельности районных руководителей построена именно таким образом: «… не парторганизации ни районный прокурор, ни местные депутаты … не стоят за интересы рабочих, это выходит все равно как Американская прогрессивность» (1967 г.) (ГАСО. Ф. Р. 88. Оп 2. Д. 907. Л 19).
В целом в рассуждениях о злоупотреблении (о несправедливости) руководства адресантами схвачена достаточно важная тенденция развития советского общества, заключающаяся в усиливающейся в 1960–1980-е гг. социальной дифференциации, которая проявлялась в желании представителей более статусных групп дистанцироваться от остальных граждан. Б.А. Грушин обозначает данную тенденцию как конфликт двух типов огромных массовых общностей: рядового населения страны и представителей всех родов, видов и рангов управления, именуемых властью [Грушин, 2006, с. 878]. В текстах писем граждан фиксация данных «сепаратистских» устремлений руководства проявляется не только на уровне использования (возможно, неосознанного) адресантами специфических образов–символов или названий–ярлыков, но и в достаточно осмысленных рассуждениях. В качестве примера можно привести выдержку из письма жителя с. Байкалово Свердловской области: «Оно (руководство района. – М.К.) оторвалось от основных масс, не признает и не прислушивается к рабочему люду, увлеклось своими интересами, не знает положения на местах, боится вскрыть недостатки и критически проанализировать их … свои ... интересы соблюдают превыше всего, не пройдет и одного года, чтоб не переделывали да не украшали свои кабинеты, обставляют дорогой мебелью, радиолами, квартиры свои благоустраивают да вновь строят дома для себя, почему-то вместе с народом не хотят жить – и это всего лишь районное руководство ... Они боятся лишне показываться простым людям, говорить с ними, слушать их и учиться своему руководству массами. Хуже того, так они удаляют от себя подальше те учреждения, которые больше всего связаны с простым народом» (1971 г.) (ЦДООСО. Ф. 4. Оп. 75. Д. 195. Л. 204). Аналогичные замечания встречаются и в пометках уральцев на избирательных бюллетенях: «Плохо, что выбираем депутатов, далеких от народа, они не знают нужды … не живут с народом» (1970 г.) (ЦДООСО. Ф. 4. Оп. 74. Д. 132. Л. 80).
Описывая деятельность руководителей как злоупотребления, нарушающие социальное равенство, адресанты освещают еще одну сторону несправедливости , выражающуюся в преследовании правдоискателей власть имущими. Опасения населения в связи с этим и примеры обращения руководства с теми, кто «посмел сказать правду», отмечаются в подавляющем большинстве текстов жалоб: «…мнение о работнике … может изменить буквально на ходу, вылить на него любую грязь, всячески унизить и оскорбить, устранить его со своего пути» (ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 161. Д. 104. Л. 96); «…за справедливую и конкретную критику мстят, готовы со света сжить, лишают работы, не дают возможности устроиться самому куда можно» (ЦДООСО. Ф. 4. Оп. 75. Д. 195. Л. 203); «…все кто осмеливается высказать свое возмущение существующим положением дел, подвергаются гонениям» (ЦДООСО. Ф. 4. Оп. 98. Д. 149. Л. 96).
Описанные сюжеты могут являться основой для размышлений о фактических провинциальных практиках «властвования» в советском государстве, но в анализируемых текстах жалоб они не выступают основным объектом, а дополняют социальный портрет руководителя и реконструируют картину социальной несправедливости.
Еще одна система координат, в которой строится критика экономических злоупотреблений руководителей, определяется категорией советскости, или идеологической идентичности.
Критика деятельности руководителей в плане ее несоответствия определяемым идеологией поведенческим образцам, осуществляется авторами писем в различных стилистических формах, например, в стилистике назидательных рассуждений: «Вообще вся политмассовая, идеологическая воспитательная работа руководством райкома партии ведется в отрыве от жизни – завуалировано, сглажено, приукрашено … если бы они умели руководить, прилагали максимум энергии, были со всеми и во всем справедливы и честны (каким должен быть руководитель-коммунист), то район мог бы иметь показатели в два раза выше по всем отраслям» (1971 г.) (ЦДООСО. Ф. 4. Оп. 75. Д. 195. Л. 203). Зачастую осуждение идеологических деформаций реализуется через гневные интонации: «Вот какие у нас начальники и коммунисты … при народе показывают, что за пол-литра они все сделают шито крыто» (1967 г.) (ГАСО. Ф. Р-88. Оп 2. Д. 907. Л 18); «Вот такова мораль, таково соблюдение ленинских принципов и норм жизни» (1971 г.) (ЦДООСО. Ф. 4. Оп. 75. Д. 195. Л. 203). «Правильно ли поступают так коммунисты? Для нас это дико … как они посмели идти на такую подлость?» (1972 г.) (ЦДООСО. Ф. 4. Оп. 79. Д. 88. Л. 4).
Наличие в текстах писем критики деятельности руководителей, развернутой в идеологической плоскости, обращает на себя внимание, так как, например, в освещении трудовых конфликтов такая линия критики фактически не представлена и требуемый решения вопрос описывается адресантами исключительно в рамках нарушения социальной справедливости [ Клинова , 2014, с. 34–36]. Вероятно, одной из причин обращения населения к идеологическим нормативам является тот факт, что большая часть обличаемых руководителей имела партийную принадлежность. А члены партии должны были в большей мере соответствовать идеалу строителя коммунизма: «Непримиримость к несправедливости, тунеядству, нечестности, карьеризму, стяжательству, высокое сознание общественного долга, нетерпимость к нарушениям общественных интересов и т.п.» [Моральный кодекс…, 1962, с. 97]. Можно предположить, что, с точки зрения адресантов, жалоба на члена партии, выдержанная в русле критики его деятельности как неподобающей коммунисту и направленная в вышестоящие партийные органы, имела больше шансов быть рассмотренной и услышанной. Содержательную направленность текстов писем на достижение «утилитарной» задачи, безусловно, необходимо учитывать при работе с источником.
Не менее актуальными видятся вопросы о том, насколько идеологические императивы резонировали с ценностными координатами пишущих и насколько население верило и доверяло транслируемым официальным дискурсом обещаниям.
В текстах некоторых писем специфика и стилистика изложения свидетельствуют о том, что определяемая идеологией этическая система была «обжита» и личностно адаптирована частью населения, став неотъемлемой составляющей личностных нравственных норм. В качестве иллюстрации этого можно привести выдержку из уже упоминавшегося анонимного письма жителя с. Байкалово: «Я коммунист и иначе не могу поступать, думаю, пусть, хотя не скоро, через 10-15 лет меня уже не будет, но письма мои пойдут на пользу простому народу, укрепят его силы, создадут условия к его идеологическому перевоспитанию, тем самым приблизится торжество коммунизма» (1971 г.) (ЦДООСО. Ф. 4. Оп. 75. Д. 195. Л. 203).
В письмах отражены и более скептические оценки транслируемых идеологией посулов. При этом суждения граждан не ограничиваются вскрытием конкретных несоответствий в деятельности местного руководства, а охватывают более масштабные социально-экономические реалии проживаемой авторами эпохи. Так, жительница г. Чусовой в письме в редакцию газеты «Правда» пишет: «Обращаюсь к тебе с большой просьбой: помоги мне найти правду. Растолкуй мне, беспонятливой женщине, при каком же строе или обществе я живу. Все вокруг говорят, что мы живем при социализме, но мне что-то не верится. Социалистическое общество – это общество, которое дало народу свободу и благосостояние. Да, народ живет лучше, но не весь народ» (1980 г.) (ПермГАНИ. Ф. 105. Оп. 326. Д. 45. Л. 17). Аналогичные суждения приводятся в письме И.И. Иванова: «Что делается? Куда мы катимся? О каком коммунизме может идти речь? Кто верит в этот коммунизм? Абсолютно никто! Мы, будучи молодыми, так верили в светлое будущее! Так надеялись на что-то хорошее! Ну и что же теперь? … Непонятно, во имя какого светлого будущего люди должны совершать трудовые подвиги?» (1980 г.) (ЦДООСО. Ф. 4. Оп. 98. Д. 149. Л. 96 об.).
В целом анализ текстов писем уральцев позволяет предположить, что фиксируемое расхождение действительности и коммунистических обещаний достаточно болезненно воспринималось гражданами, вызывало острые эмоциональные реакции. Некоторые авторы писем, лично принимая транслируемые идеологией этические конструкты и футуристические обещания, расценивали рассогласованность реальности и догматов как досадную деформацию реальности, которую необходимо корректировать в соответствии с идеологическими императивами. Другие адресанты, наблюдая за деятельностью руководства и социально-экономическим развитием страны, сомневались в целесообразности идеологических догм. Существование такого «разлома» в социальном сознании подтверждает верность гипотезы Б.А. Грушина о начавшемся в этот период процессе осознания россиянами краха коммунистической идеи при еще сохранявшейся в массовом сознании лояльности к этим идеалам [ Грушин , 2006, с. 843–844, 851, 866]. В 1970–1980-е гг. процесс девальвации ценностей нарастал, постепенно вытесняя сохранявшуюся в сознании советских граждан веру в возможность построения коммунистического будущего. Тенденция к утрате доверия населения к идеологическим посулам и ощущение увеличения дистанции между руководством и народом привели к тому, что частью населения партийная принадлежность начинает восприниматься как пропуск в «закрытое» общество, деятельность которого не регулируется ни законами, ни этическими и моральными нормами. Так, Малышев, житель г. Богданович Свердловской области, отмечает: «Они партийные, им все можно» (1974 г.) (ЦДООСО. Ф. 4. Оп. 83. Д. 9З. Л. 6). Об этической специфике руководства, отделяющей его от остального населения, пишет И.И. Иванов: «Бессовестные, нечестные люди живут гораздо лучше честных … сколько я знаю людей, которые чем ни подлее, тем лучше в жизни устроились…» (1980 г.) (ЦДООСО. Ф. 4. Оп. 98. Д. 149. Л. 96 об.).
Таким образом, исследование текстов писем и жалоб уральского населения, относящихся к «брежневскому» периоду, дает основание заключить, что информационный потенциал этих источников достаточно велик: позволяет не только реконструировать событийную сторону повседневности уральцев, но и выявить специфику экономических и этических суждений граждан, а также проследить динамику процессов, происходящих в советском социуме, и их восприятие населением.
Судя по текстам писем уральцев, категория справедливости, под которой населением понималось равенство возможностей доступа к благам, была более выражена в системе экономических суждений граждан, нежели понятие законности. Что касается категории советскости, то на этом уровне злоупотребления трактовались как нарушения руководителями официально определяемых идеологией поведенческих образцов. Выраженность в пространстве суждений советских граждан категорий справедливости и советскости, несомненно, свидетельствует о важности данных аксиологических полей. Именно справедливость (сохранение социального равенства) и советскость (этическое соответствие стандартам) определяли систему координат, в рамках которой гражданами оценивалась деятельность советского руководства. Экономические злоупотребления власть иму- щих трактовались гражданами как грубые нарушения, допущенные в рамках данной аксиологической системы, вызывавшие у населения категорическое неприятие и значительное снижение доверия к власти. В «брежневский» период процесс дискредитации руководства в глазах населения уже не ограничивался отдельными представителями местной власти, а постепенно охватывал всю советскую систему, так как указанные аксиологические категории являлись базовыми атрибутами всего реализуемого в СССР проекта социального устройства.
Описанные процессы и явления привели к подвижкам в общественном сознании, проявившимся в начавшейся девальвации коммунистической идеи и снижении доверия граждан к транслируемым официальным дискурсом обещаниям, хотя в исследуемый период в советском социуме еще сохранялась относительная лояльность к существующим идеологическим постулатам.
Список литературы "При советской власти не должно быть буржуев!": суждения уральского населения о злоупотреблениях руководства (по материалам писем и жалоб 1964-1982 гг.)
- Грушин Б.А. Четыре жизни России в зеркале опросов общественного мнения: Очерки массового сознания россиян времен Хрущева, Брежнева, Горбачева и Ельцина в 4-х книгах. Жизнь 2-я. Эпоха Брежнева (часть 2-я). М., 2006
- Клинова М.А. Жалобы в органы власти как способ решения трудовых конфликтов (по материалам писем жителей Свердловской области второй половины 1940-х-1950-х гг.)//Право в современном мире: вопросы защиты прав человека: Матер. IV Междунар. науч.-практ. конф. Екатеринбург. 2014
- Купина Н.А. Тоталитарный язык: словарь и речевые реакции. Екатеринбург; Пермь. 2005
- Левада Ю.А. Человек лукавый: двоемыслие по-российски // Мониторинг. 2000. №1. Моральный кодекс строителя коммунизма // Хрестоматия по марксистско-ленинской философии. М.. 1962
- Хархордин О.В. Обличать и лицемерить: генеалогия российской личности. СПб., 2002