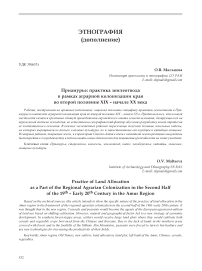Приамурье: практика землеотвода в рамках аграрной колонизации края во второй половине XIX - начале XX века
Автор: Мальцева О.В.
Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas
Рубрика: Этнография
Статья в выпуске: т.XXIII, 2017 года.
Бесплатный доступ
Работа, построенная на архивных источниках, нацелена показать специфику практики землеотвода в Приамурье в контексте аграрной колонизации края во второй половине XIX- начале XX в. Предполагалось, что в новой местности казаки и крестьяне станут проводниками европейского опыта землепользования, базирующегося на переложной системе земледелия, но естественно-географический фактор обусловил разработку новой стратегии ее хозяйственного освоения. В южных лесостепных районах переселенцы получали большие земельные наделы, на которых выращивали не только злаковые культуры, но и заимствованные от корейцев и китайцев овощные. В северных районах, покрытых лесом, и в предгорьях Сихотэ-Алиня в связи с нехваткой земли крестьяне вынуждены были перейти к огородничеству и использовать новые технологии для повышения урожайности на своих участках.
Приамурье, левобережье, китайцы, овощные культуры
Короткий адрес: https://sciup.org/145145529
IDR: 145145529 | УДК: 39(633)
Текст научной статьи Приамурье: практика землеотвода в рамках аграрной колонизации края во второй половине XIX - начале XX века
С присоединением левобережной части Приамурья к Российскому государству, согласно Айгун-скому (1858 г.) и Пекинскому (1860 г.) договорам, перед царским правительством встала дилемма выбора путей развития новоприобретенного края: использовать старые проверенные методы управления в его освоении или выработать новую стратегию. Главная работа сводилась к организации заселения долины реки, представлявшей малонаселенную местность. При этом необходимо было учитывать ряд факторов природно-климатического, внешнеполитического характера и степень сложно сти строительства дорожной инфраструктуры для связи с центральными районами России. Предполагалось, что основной контингент «засельщи-ков» будет состоять из крестьянства и казачества, для которых обустройство на новом месте позволит решить их проблему безземелья и обеспечения продовольствием.
К.И. Максимович в ходе исследования долины Амура, проведенного в 1861–1862 гг., пытался выявить ее сельскохозяйственный потенциал. Выполненное им условное районирование указывало, что предпочтительней для аграрной колонизации покрытая лиственным лесом «южная полоса» Приамурья, занимающая пространство от р. Хунга-ри до Уссури. По его наблюдениям, на этом участке берега представляют равнину и горные хребты изредка подступают к самому берегу, «огромного роста травы свидетельствуют о чрезвычайно плодородной почве и благоприятном климате» [Максимович, 1861–1862, л. 2 об.]. Он привел ряд условий, необходимых для организации земледельческих поселений, выраженных в наличии ровного участка для разбивки пашни, луга для выпаса скота, строевого леса для постройки дома, что соответствовало критериям единоличного хозяйства, построенного на европейских традициях хлебопашества [Там же, л. 7]. Если «инородцы» предпочитали осваивать отвесные, крутые берега, поскольку рядом располагались изобиловавшие рыбой глубоководные места, то в новой картине расселения жилая зона смещалась на левый пологий берег, т.к. правый берег, переходящий в предгорья Сихотэ-Алиня, каменистый и не совсем подходил для земледелия [Там же, л. 7 об.].
Уже в 1858 г. администрация Восточно-Сибирского генерал-губернаторства предприняла первые шаги по включению левобережной части Приамурья в земледельческую зону, куда и отправлена была первая партия «приселенцев» из Забайкальского казачьего войска с опытом пашенных работ [По колонизации…, 1869, л. 35]. Из доклада казачьего сотника Шереметьева видно, что первоначальный план отвода земли под пашню на левом бе- регу Амура не оправдал себя. Прибывшие осенью 1861 г. и весной 1862 г. вынуждены разрабатывать земли на высоких местах, не подвергавшихся затоплению, а старые оставить. Из-за покрытия возвышенностей деревьями и мелким кустарником, «прежде чем приступить пахать на лошадях, требовались личные человеческие силы. В 1863 г. повторилось затопление лугов и постоянный дождь во время жатвы, сгноил большей частью хлеб» [Там же, 17 л.].
Для привлечения крестьянства на нераспаханные земли необходимо было дать им гарантии свободного владения ими. Согласно разработанным правилам для «вольных засельщиков», каждый переселенец по прибытии на место получал не только скот, но и земледельческие орудия, строительные материалы, продовольствие на 1,5 года; каждой семье предо ставлялся свободный выбор места для поселения с отводом им земли до 100 десятин. В то же время указывалось, что приобретшие землю облагаются поземельным сбором, а не выполнившие кроме поземельного налога должны уплачивать и оброчную подать [Особое совещание…, 1883, л. 53 об. – 54].
По сле 1901 г. стодесятинный отвод земли местная администрация признала ошибочным решением из-за массовых случаев использования казаками-общинниками, как раз получившими огромные земельные владения, китайского труда [О ходе работ…, 1910–1912, л. 182; Материалы…, 1913, л. 77 об.; О выработке мер…, 1909–1916 гг., л. 7]. Перед правительством стояла сложная задача в виде разработки протекционистских мер для защиты отечественного сельхозпроизводителя. В зону землеотвода попали приграничные с Китаем районы с лесостепными ландшафтами, обширными лугами, где распространение сельскохозяйственных практик «южного соседа» приобрело устойчивую форму. Применявшиеся китайскими аграриями способы выращивания овощей на небольших участках земли являлись высокопродуктивными, давали хороший урожай. Конкуренцию европейскому землепашцу, ориентированному на злаковые культуры, китайцы составили и благодаря высокой специализации труд а: их работающее население делилось на земледельцев, «лесовиков» (выращивающих и собирающих древесные грибы), звероловов, занимающихся женьшеневым промыслом, «капустников» (промышляющих морской капустой и трепангами), золотоискателей [Особое совещание…, 1883, л. 123 об.]. Чтобы воспрепятствовать самовольной передаче части пахотных угодий китайским арендаторам правительство решило сократить семейный надел до 10 десятин. Эта мера, реализованная в 1910–1911 гг., была продиктована также истощением колонизационного фонда, в распоряжении которого оставались малоплодородные пространства приустьевой части Амура, «заросшие лесом, удаленные от городов, торговых центров, путей сообщения» [Материалы…, 1913, л. 74 об.].
Переселенческое Управление констатировало, что новоселам (прибывшим после 1901 г.) предоставляют земли худшего качества. Основная масса их направлялась в горные и прибрежные, промысловые районы [Там же, л. 75]. В более выгодном положении по условиям отвода земли оказались старожилы – «стодесятинники», наличие больших наделов в благоприятных для земледелия районах обусловило увеличение зажиточных семей в их составе. К 1910–1911 гг. их насчитывалось 124 тыс. человек, тогда как в «новосельческих» поселениях достигало 150–160 тыс. человек [Там же]. В условиях ограничений пахотных угодий отношения между новоселами, а также новоселов со старожилами регулировались правом первого захвата, проистекавшим из переложной системы земледелия. При таком способе часть надела оставалась под паром или являлась залежью. Новопоселенцы буквально состязались в захвате лучших клочков земли с расчетом на то, что участки с большей площадью впо следствии будут использоваться под пашню или сенокос. Подобные заимки, представлявшие куски нетронутой природы, находились среди распаханных наделов, они и стали важным источником благосостояния семей. В целом в Приамурье захват земель по отдельным районам распространялся неравномерно, что объяснялось строением рельефа. Там, где были луга, практиковалось перепродажа земли новым соседям за плату 300–400 руб. В горных, лесных районах многолошадные семьи с общественного надела вырубали лес и вывозили его на рынок. Позже из-за нависшей угрозы сокращения лесов правительство решило в старожильческих селениях уменьшить лесные наделы до несколько десятин с дальнейшим запретом рубки леса, которую контролировал лесной надзор [О выработке мер…, 1909–1916, л. 38 об.]. В промысловом районе главной статьей дохода в крестьянском бюджете стал рыбный промысел [Материалы…, 1913, л. 75–77].
В распределении выходцев из разных губерний России по районам края оформились их хозяйственные предпочтения. К примеру, белорусов притягивали лесные районы, и они успешно справлялись с корчевкой леса. Рыбным промыслом предпочитали заниматься воронежцы, тамбовцы и астраханцы [Там же, л. 75 об.].
Так, в 1910–1913 гг. Переселенческое Управление отчитывалось: «…в Удском и восточной части Хабаровского уезда развито рыболовство; по мере движения вверх по реке, рыбный промысел уступает место лесному, наиболее выраженному в окрестности г. Хабаровска и нижнем течении р. Уссури» [Там же, л. 62 об.].
В низовьях Амура местная администрация в своих записях подчеркивала нежелание переселенцев заниматься землепашеством. Короткое лето и ранние заморозки сокращали период, необходимый для созревания злаковых, что и стало причиной перехода крестьян и казаков на рыбную ловлю и заготовку дров [О выработке мер…, 1909–1916, л. 20, 31]. На небольших земельных наделах площадью от 1,5 до 10 десятин крестьяне преимущественно выращивали кормовые растения – овес, ячмень; огородные растения занимали 1/3 площадь от всего посева; пшеница и гречиха – 20 % посевной площади [Там же, л. 65]. Крестьяне мало были знакомы с бахчевыми и рядом огородных культур, которые успешно выращивали китайцы и корейцы [Материалы…, 1913, л. 85]. Однако возросшее количество рабочих, трудившихся на Амгунских золотых приисках, рыбозаготовительных и лесных компаниях требовало все больше продовольствия. В природно-климатических условиях, ограничивающих земледелие, единственным способом поднять урожайность наделов стало применение различных технологий. В некоторых хозяйствах появились зерноочистительные машины для очистки посевных семян; участковые агрономы в беседах знакомили население с техникой полеводства, культурой различных растений, рекомендовали орудия для более совершенной обработки земли. Закладывались опытные поля, производились показательные посевы, изучались почвы. Использование новых методов растениеводства позволило новоселам получать урожай в объеме выше, чем у старожилов [Там же, л. 79].
В начале XX в. нижнеамурские аграрии, используя интенсивные формы земледелия, смогли на некоторое время повысить продуктивность своих участков не только благодаря внедрению новых технологий, но и благодаря заимствованию традиций огородничества от корейцев и китайцев, что стало одной из форм адаптации западного сельскохозяйственного опыта к дальневосточным климатическим условиям.
Исследование проведено в рамках проекта РФФИ № 15-01-00453.
Список литературы Приамурье: практика землеотвода в рамках аграрной колонизации края во второй половине XIX - начале XX века
- Максимович К.И. Рукописи трудов. Сведения об Амурском крае, 1861-1862. - 18 л. // Санкт-Петербургский филиал архива РАН. Ф. 82. Оп. 1. Д. 21.
- Материалы по Дальнему Востоку, 1913. - 406 л. // Санкт-Петербургское отделение РГИА. Ф. 391. Оп. 5. Д. 562.
- О выработке мер борьбы с желтой расой и доставке русских на Дальний Восток, 1909-1916. - 376 л. // Санкт-Петербургское отделение РГИА. Ф. 394. Оп. 1. Д. 13.
- О ходе работ командированной по величайшему повелению Амурской экспедиции, 1910-1912. - 189 л. // Санкт-Петербургское отделение РГИА. Ф. 394. Оп. 1. Д. 28.
- Особое совещание по Амурским делам, 1883. -226 л. // Санкт-Петербургское отделение РГИА. Ф. 1221. Оп.1. Д.1.
- По колонизации края, 1869. – 168 л. // Санкт-Петербургское отделение РГИА. Ф. 1315. Оп. 1. Д. 5