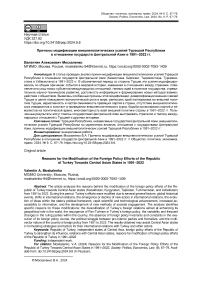Причины модификации внешнеполитических усилий Турецкой Республики в отношении государств Центральной Азии в 1991-2022 гг
Автор: Москаленко В.А.
Журнал: Общество: политика, экономика, право @society-pel
Рубрика: Политика
Статья в выпуске: 9, 2024 года.
Бесплатный доступ
В статье проведен анализ причин модификации внешнеполитических усилий Турецкой Республики в отношении государств Центральной Азии (Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана) в 1991-2022 гг. В обозначенный период со стороны Турции эти усилия модифицировались по общим причинам: события в мировой истории, изменения в отношениях между странами, появление или уход новых субъектов международных отношений, генезис идей в политике государства, стремительное научно-техническое развитие, доступность информации и формирование новых методов взаимодействия с обществом. Выявлены особенные причины этой модификации: диверсификации внешних связей Турции в целях повышения геополитической роли в мире, ренессанс идей пантюркизма во внешней политике Турции, вариативность и частая сменяемость правящих партий в стране, отсутствие внешнеполитических инвариантов и констант в проведении внешнеполитического курса, борьба происламских партий и кемалистов на политической арене, многовекторность всей внешней политики страны в 1991-2022 гг. Полученные результаты могут помочь государствам Центральной Азии выстраивать стратегию и тактику международных отношений с Турцией и другими акторами.
Турецкая республика, независимые государства центральной азии, внешнеполитические усилия турецкой республики по укреплению влияния, отношения с государствами центральной азии, причины модификации внешнеполитических усилий турецкой республики в 1991-2022 гг
Короткий адрес: https://sciup.org/149146436
IDR: 149146436 | УДК: 327.82 | DOI: 10.24158/pep.2024.9.8
Текст научной статьи Причины модификации внешнеполитических усилий Турецкой Республики в отношении государств Центральной Азии в 1991-2022 гг
МГИМО, Москва, Россия, ,
,
Введение . Турецкая Республика (ТР) самой первой во всем мире признала независимость государств Центральной Азии (ЦА) после распада СССР в 1991 г. В первую очередь это объяснялось этническим, культурно-языковым и историко-религиозным единством ТР и стран ЦА1: последние, кроме Таджикистана, входят в тюркоязычную группу народов, ислам выступает их ведущей религией, у всех стран общие история происхождения и культура (Муса кызы, Оморова, 2015: 126; Саримсоков, 2020: 613).
ТР представляла свой опыт развития светской республики с большим влиянием и учетом религиозного фактора во всех вопросах жизнедеятельности страны и народа. При этом как сама ТР, так и государства ЦА решали собственные задачи. Турция ставила более значимые задачи, чем страны Центральной Азии. Важно изучить их как причины внешнеполитических усилий Турецкой Республики в отношении государств ЦА, модификацию этих усилий в период 1991–2022 гг.
Данные и методы . В исследовании поставлена цель – проанализировать причины трансформации внешнеполитической деятельности Турецкой Республики в отношении стран Центральной Азии в 1991–2022 гг. Исследовательский вопрос заключается в выявлении общих и особенных причин их модификации.
В качестве методов исследования выступили общенаучный подход к определению причинноследственных связей явлений и процессов политических событий, сравнительный анализ внешнеполитических концепций ТР и государств ЦА, анализ модификации внешнеполитических усилий Турецкой Республики в отношении государств Центральной Азии в обозначенный период.
В качестве материалов исследования использованы международные соглашения между ТР и странами ЦА за 1991–2022 гг., документы существующих и вновь создаваемых объединений, блоков, союзов, ассоциаций различной направленности ТР и стран ЦА. Все данные взяты из открытых источников2, а также применялись аналитические материалы политологов ТР (Acar, 2020; Avşar, Solak, 1994; Karpat, 2014; Oran, Ünsal, 2013; Özkan, 2010; Türk Dış Politikası. Vol. 2, 2001).
Независимые государства ЦА, бывшие республики Советского Союза, получили независимость в результате распада СССР и должны были в очень короткий период определиться с основными направлениями внешнеполитической деятельности и решением внутриполитических задач. Каждое государство имело длительную историю развития, благодаря национальной политике СССР сохранило язык и культуру, сформировало экономику, хотя и интегрированную в общую экономическую деятельность всего СССР. Однако 70-летний опыт существования в большом и мощном государстве с подчинением единому центру накладывал след на реализацию внешней и внутренней политики. Более того, все государства ЦА возглавляли руководители, которые занимали места в высших органах власти или республиканских комитетах Коммунистической партии во время СССР (Москаленко, 2020).
Поэтому 70-летний опыт ТР (1923–1991 гг.) по построению светской республики со значительным влиянием ислама был интересен и востребован в государствах ЦА. Немаловажны здесь были родство языков и ислам как ведущая религия общества.
ТР видела в сотрудничестве с центральноазиатскими государствами – «братьями» перспективы выхода за пределы своего региона и превращения в державу, распространяющую влияние на несколько регионов мира, а далее – на весь мир. Это, несомненно, повышало международный и региональный авторитет ТР на Ближнем Востоке и в мире, который после 80-х гг. ХХ в. был недостаточно высок и не всегда признавался соседями по региону, а тем более в мире, что не удовлетворяло амбиции правящей элиты ТР (Москаленко, 2016, 2018).
В сотрудничестве с государствами ЦА ТР видела возможность распространения идей пантюркизма и неоосманизма на новые государства и новый Центральноазиатский регион. Отметим, что возрождение Османской империи и воплощение идеи пантюркизма в 90-х гг. ХХ в. – 20-х гг. ХХI в. становятся одними из ведущих целей правящей элиты и оппозиции ТР (Аватков, Бадранов, 2013; Вахитова, 2010; Джакупов, 2019; Иванова, 2017; Кириллова, 2018; Малышева, 2017; Москаленко, 2021; Султанов, 2017).
Представление турецкой элиты об общей для турецкого и центральноазиатских народов аксиологической и идеологической составляющей – панисламизме – переносилось на другие важные для турецкой элиты составляющие – пантюркизм и неоосманизм, но воспринимаемые центральноазиатскими народами иначе. При этом «неоосманская доктрина не выделяет идею пантюркизма в отдельную идеологему, а напротив – преподносит ее в качестве составного элемента единого геополитического видения Турции, которое, по сути, более не делит сферы своих стратегических интересов на “тюркские” и “нетюркские”» (Джилавян, 2014: 87). Неоосманизм
(А. Давутоглу) подразумевает под собой связь внешней политики ТР с историческим наследием османов и ее направленность на возврат «оттоманского прошлого» с учетом современных реалий, в том числе на территории стран ЦА (Мехдиев, 2016: 33). Возвышение идеологем неоосма-низма и пантюркизма турецкой стороной привело к разногласиям между руководством ТР и государств ЦА (Исра, 2019: 11). В основе разногласий лежали и другие причины, ключевой конфликт состоял в разной ментальности – у центральноазиатских народов за советский период произошла значительная трансформация культурной идентичности и традиционных мусульманских ценностей (Жусипбек, 2013: 35). При этом идеологемы пантюркизма и неоосманизма воспринимались как вероятное ущемление национальной идентичности (Малышева, 2010).
Сформулируем для настоящего исследования следующее определение: внешнеполитические усилия ТР в отношении государств ЦА в 1991–2022 гг. понимаются как комплекс социальнополитических, экономических, финансовых, образовательных, культурных, религиозных и других мер и мероприятий, которые реализуются Турецкой Республикой в отношении независимых государств ЦА в целях формирования тюркоязычного объединения для решения следующих задач: оказание различной помощи независимым странам ЦА в начале их пути построения государств, повышение международного авторитета ТР, усиление влияния на политическую деятельность в государствах ЦА и склонение к позиции ТР через механизм «мягкой силы» .
Внешнеполитические усилия ТР в отношении государств ЦА за указанный период были модифицированы и могут быть представлены следующими этапами:
-
– первый: 1991–2002 гг., включающий два подэтапа – с 1991 по 1996 г. и с 1996 по 2002 г.;
-
– второй: 2002–2009 гг., два подэтапа – с 2002 по 2005 г. и с 2005 по 2009 г.;
-
– третий: 2009–2022 гг., два подэтапа – с 2009 по 2016 г., с 2016 по 2022 г. (Москаленко, 2020; Moskalenko, 2021).
Результаты . Представленная периодизация показывает, что внешнеполитические усилия ТР в отношении государств ЦА в 1991–2022 гг. менялись по разным причинам – как общим, так и специфическим. К общим причинам модификации отнесем следующие:
-
– события в мировой истории или истории одной либо нескольких стран : распад СССР: эволюция внешней политики России в отношении стран Балтии на современном этапе (Бойков, 2020); эволюция и преемственность российской внешней политики на рубеже XXI в.1; эволюция внешней политики Франции по окончании холодной войны (конец 1980-х – начало 2000-х гг.)2; эволюция современных французских теорий международных отношений и концепций внешней политики3; эволюция концепции экспорта исламской революции в контексте внешней политики Исламской Республики Иран 1990-х гг. (Хандогин, 2011) и др.;
-
– изменения в отношениях между странами : эволюция внешней политики США в отношении Ирана (1979–2008 гг.)4; эволюция информационной политики ЕС в контексте внешних вызовов и угроз (госпереворота и гражданского конфликта на Украине, гражданских войн и продолжающейся нестабильности в Средиземноморье и на Ближнем Востоке (Ливия, Сирия, Ирак, Афганистан)) (Фатыхов, 2018); эволюция антисоветских экономических санкций как инструмента внешней политики США после окончания Второй мировой войны (Федорова, 2017); эволюция внешней политики США (переход от «жесткой» и «мягкой» силы (hard power и soft power) к «умной» силе (smart power)) (Козлов, 2018; Лукьянова, 2021) и др.;
-
– появление или уход новых субъектов международных отношений : эволюция внешней политики постсоветской России5 (Богатуров и др., 2022; Гулидов, 2023; Михайленко, 2022; Муть-ева, 2018); эволюция внутренней и внешней политики стран Балтии после вступления в Евросоюз (Володькин, 2016); эволюция внешней политики африканских стран (новые тенденции в условиях усиления влияния Африки в мире) (Дейч, Верташов, 2017); эволюция внешней политики России в Северо-Восточной Азии после распада СССР6; эволюция внешней политики России в Средней Азии в рамках ЕАЭС (Нечай, 2016) и др.
Модификация внешней политики государства в исследовании рассматривается как генезис идей в политике государства чаще всего в результате смены правительства, революции, переворота :
-
– эволюция идеи мировой революции в политике Советского Союза (эпоха Коминтерна и социализма в одной стране) (Худолей, 2017);
-
– эволюция информационного противоборства как инструмента внешней политики: исторический аспект (Баканова, 2020);
-
– эволюция концептуальных основ внешней политики России и их реализация в российской дипломатической практике на современном этапе (1991–2019 гг.)1;
-
– эволюция доктринальных основ внешней политики США в условиях глобализации2 и др.
Также к общим причинам необходимо отнести и стремительный научно-технический прогресс, развитие информационно-коммуникационных технологий и Интернета, доступность информации и формирование новых способов взаимодействия с обществом . Это в целом воздействовало на содержание, характер и направленность внешнеполитических усилий ТР в 1991– 2022 гг., в том числе в отношении государств ЦА.
Следовательно, на политику Турции повлияли следующие события, которые и стали общими причинами модификации внешнеполитических усилий Турции в отношении стран Центральной Азии в 1991–2022 гг .:
-
– распад Советского Союза;
-
– изменение отношений ТР со странами мира, в том числе с региональными соседями после холодной войны США и СССР;
-
– появление новых акторов международной политики – государств в ЦА и на Южном Кавказе (ТР первой признала независимые государства ЦА в 1991 г.).
Отметим, что отведенная ранее странами ЕС и США роль Турции как «щита против исламского фундаментализма Ирана» (Надеин-Раевский, 2022) так и не была исполнена, не поступили планируемые крупные финансовые средства со стороны Евросоюза и США, что в совокупности могло бы усилить авторитет Турции.
Рассмотрим особенные причины модификации внешнеполитических усилий ТР в отношении государств ЦА в 1991–2022 гг.
Исходя из предшествующего периода развития (до 1991 г.) внешней политики ТР, первой особенной причиной выступила диверсификации внешних связей Турции в целях усиления геополитической роли в мире . Государства ЦА послужили для ТР объектом диверсификации внешних связей, которая эксплицитно и/или имплицитно является одной из центральных внешнеполитических задач. Диверсификация (новолат. diversificatio – «изменение, разнообразие», от лат. diversus – «разный» + facere – «делать») во внешней политике ТР понимается как разнообразие методов и форм внешнеполитической деятельности в совокупности. К 1991 г. политическая элита Турции понимала, что страна является региональной державой наряду с другими субъектами региона. Но амбиции элиты, а также идеи восстановления неоосманизма и пантюркизма заставили ТР сделать привлекательной свою внешнюю политику по отношению к государствам Центральной Азии. Наибольший эффект от политической диверсификации достигается добавлением в «портфель политики» одного государства различных методов и форм деятельности, большого количества акторов и субъектов внешнеполитического процесса, задействования многих отраслей производства и разных регионов по отношению к другим странам (Дюсупов, 2017). При этом диверсификация доходит до максимума тогда, когда ухудшение в отношении одного показателя компенсируется возрастанием другого3.
В политике ТР в отношении государств ЦА в 1991–2022 гг., особенно в самом начале, наблюдалась «наивная диверсификация» (англ. naive diversification) – стратегия, которую Турция применяла бессистемно во многих проектах в Центральной Азии. При этом турецкая политическая элита надеялась, что такая политика принесет максимум дивидендов, в первую очередь интеграцию государств ЦА вокруг ТР. Использование этой стратегии не привело к ожидаемым результатам как для ТР, так и для стран ЦА. Более того, в 2000-х гг. недополученность (как несоответствие ожиданиям) ожидаемых результатов привела к снижению активности взаимодействия между Турцией и государствами ЦА.
Отметим, что в 90-е гг. ХХ в. диверсификация в политике ТР проявилась в нескольких видах: – горизонтальная, которая подразумевает разработку или приобретение отличающихся от имеющихся в межгосударственной практике внешнеполитических форм и методов деятельности, потенциально интересных государствам ЦА, их администрациям и элитам;
-
– вертикальная, так как республика стремилась к кооперации всех внешнеполитических процессов сотрудничества с Центральной Азией под руководством ТР («Турция – старший брат государств ЦА»);
-
– концентрическая (связанная диверсификация), так как сотрудничество ТР со странами ЦА базировалось на имеющихся у Турции достижениях и разработках.
Отметим, что модификация внешней политики ТР в форме диверсификации внешних связей ТР со странами мира выразилась в комплементаризме (от лат. complementum – «дополнение»). «В политологическом ракурсе под этим понятием подразумевают политическую модель поведения государства, ориентированную на равноудаленность от всех центров силы. Политика государства при этом барражирует на уровне своеобразной игры (Polis Ludens – от Homo Ludens, “человек играющий”), когда наблюдается ожидание выбора более удачного и выгодного партнера (субъекта или объекта) по интегрированию» (Буров, 2008).
Внешняя политика ТР в 1991–2022 гг. была ориентирована на несколько центров силы. В первую очередь это западные страны ЕС и США, а также Россия как один из главных экономических партнеров, а ближе к 2010-м гг. – и политических партнеров.
Также турецкая внешняя политика была направлена на свой регион и крупных игроков в нем, прежде всего на королевства Персидского залива. При этом Турция имела здесь привилегированное положение – она была единственной страной региона, входящей в НАТО. В конце 2000–2010-х гг. Турция провозгласила курс на «ноль проблем с соседями» (концепцию внешней политики Турции А. Давутоглу (Маврина, 2014)). А. Давутоглу при построении внешнеполитического курса ТР предложил учесть уникальность страны в силу ее выгодного географического положения как связующего звена Европы и Азии (Bilgin, 2007: 748), а также богатого культурного и исторического наследия. При этом А. Давутоглу выделил следующие сферы влияния для Турции: Балканы, Ближний Восток и Кавказ; Черное море, Восточное Средиземноморье, Персидский залив и Каспий; Европа, Северная Африка, Южная, Средняя и Восточная Азия.
По мнению А.А. Ирхина, «турецкая “Стратегическая глубина” может быть описана рядом взаимосвязанных параметров: “Турция как центральное государство”, “приоритет “мягкой силы””, “ноль проблем с соседями”, “экономическая взаимозависимость”, “историческое наследие”, “гуманитарная дипломатия”, “международное посредничество”, “страна-модель”, “энергетический хаб – коридор”» (2019: 144).
В своем регионе ТР стала пытаться налаживать политические отношения и создавать условия для открытия границ между Республикой Арменией и Турцией (Геворкян, 2019: 140).
В конце ХХ в. турецкая внешняя политика презентует себя в Африке, Юго-Восточной Азии. В Африке ТР с помощью «мягкой силы» и увеличения экономической мощи выступает как покровитель и меценат, при этом действует в интересах собственной национальной безопасности, особенно в плане борьбы с FETO (Fethullahist Terrorist Organisation). Африканская стратегия, принятая в 2003 г., запустила крупномасштабный процесс расширения зон влияния Турции на африканские территории. Большинство проектов, в которые активно инвестирует Турция, являются экономическими и образовательными. Кроме этого, ряд турецких бизнесменов оказывают гуманитарную и медицинскую помощь (Мосаки, 2010). Примечательно, что африканское направление Турции выступает одним из самых стабильных и выгодных в контексте стремления проводить всестороннюю политику по укреплению своего влияния.
Резюмируя, следует отметить, что турецкая внешняя политика эволюционировала не только горизонтально – умножая контакты с новыми странами, но и качественно – меняя направления внешнеполитического сотрудничества со странами, с которыми у нее уже были налажены отношения. При этом у ТР появилась новая роль – мирного переговорщика (переговоры по сирийскому вопросу в Астане в 2017 г., потенциал ТР как опытного переговорщика был предложен и Казахстану во время протестных выступлений в 2022 г., России и Украине – в 2022 г. в Стамбуле и др.) (Кириллова, 2018: 19).
Вторая особенная причина модификации внешнеполитических усилий ТР в отношении государств ЦА в 1991–2022 гг. – это ренессанс идей пантюркизма во внешней политике . С момента вступления Турции в НАТО (18 февраля 1952 г.) для более широкого охвата территорий Советского Союза втянутые в борьбу с коммунистическим центром западные страны стали использовать ТР как проводника идеологии пантюркизма с целью «оторвать» от СССР республики Средней Азии и Азербайджан1. Важную роль при этом играла Партия националистического действия
(Milliyet Hareket Partisi), которая была образована в 1969 г. Альпарсланом Тюркешем1. ПНД поставила во главу угла политической программы пантюркистскую и антикоммунистическую риторику, целью было провозглашено объединение всех тюрков мира. ПНД поддерживали радикальные националистические организации – Союз турецких националистов (Türkiye Milliyetçiler Birliği), Клуб интеллектуалов (Aydınlar Kulübü), Организация турецких патриотов (Vatansever Türk Teşkilatı) и Клуб борьбы с коммунизмом (Komünizmle Mücadele Dernekleri)2. После государственного переворота 12 сентября 1980 г. Партия националистического действия была запрещена, а ее руководитель А. Тюркеш был обвинен в государственном заговоре и приговорен к смертной казни3.
С запретом ПНД идеи пантюркизма не исчезли, а стали более активно развиваться и перешли в центр внимания внешней политики ТР (Насибова, 2015: 114). Особенно это заметно после 1991 г.: распад СССР и сведение до минимума отношений государств ЦА с Россией укрепили мнение политической элиты ТР о ведущей роли своей страны в процессе объединения всех тюркоязычных народов (Москаленко, 2021).
Далее происходила эволюция внешней политики ТР: с середины 1990-х гг. возникло новое направление – неопантюркизм, который отличался от традиционного пантюркизма тем, что в нем не было главной идеи – создания единого тюркского государства Туран, объединяющего все тюркские народы. Со стороны стран ЦА наблюдалось нежелание терять независимость, а со стороны ТР отсутствовала возможность инвестировать в необходимом объеме в экономику государств в ЦА4. Также мировое сообщество не одобряло имперских амбиций ТР в отношении стран Центральной Азии. В 90-е гг. ХХ в. пантюркизм в виде неопантюркизма становится главным методом сотрудничества с государствами ЦА во всех сферах взаимодействия – в экономике, политике, культуре, образовании и др. Кроме того, неопантюркизм играет роль способа утверждения регионального лидерства ТР в не только в своем регионе, но и в Центральноазиатском.
Изменение места пантюркизма во внешней политике ТР произошло и в силу того, что в 2002 г. к власти пришла Партия справедливости и развития (ПСР), которая «позиционировала Турцию как “мост между Востоком и Западом”, выступала за вступление Турции в Европейский союз и, в то же время в рамках объявленной политики “ноль проблем с соседями” начала устанавливать связи с соседними государствами (Сирией, Ираком и Ираном). Тогда еще премьер-министр ТР Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что цель его дипломатических усилий заключается в том, чтобы Анкара стала игроком» (Надеин-Раевский, 2022: 97).
Отметим, что неоосманизм представляет собой концепцию, изобретенную и разработанную западными исследователями для теоретического осмысления изменений политического развития ТР в конце XX – начале XXI в., основанную на учете опыта строительства и развития мощной многонациональной империи, так называемом османском наследии ТР, а также объясняемую динамикой международного политического развития страны. При этом в основе неоосманизма лежит не идеология, а прагматичный подход, определяемый национальными интересами государства и способный в перспективе обеспечить становление ТР в качестве мощной региональной державы, базирующейся на опыте исторического и культурного взаимодействия с США, Европой, странами Ближнего Востока и Азии (Дегтерев и др., 2015; Савичева, 2014; Чмырева, 2016).
Таким образом, динамика идей пантюркизма, неопантюркизма и неопанисламизма имеет разную степень влияния во внешней политике ТР, в том числе во взаимоотношениях с государствами ЦА.
Третьей особенной причиной модификации внешнеполитических усилий ТР в отношении стран ЦА в 1991–2022 гг. выступает вариативность и частая сменяемость правящих партий, основополагающих институтов власти, представителей власти - премьер-министров, что привело к отсутствию инвариантов и констант в проведении внешнеполитического курса . За указанный период в Турции часто сменялись партии, премьер-министры и президенты. Только за промежуток времени с 9 ноября 1989 г. по 14 марта 2003 г. – сменилось 10 премьер-министров5. Частая ротация лидеров в политической элите ТР также вела к изменениям в политике. Каждый лидер представлял как свои интересы, так и круг вопросов, в которых акторами и интересантами были представители элиты – руководящих и оппозиционных партий, политических движений и групп.
Зависимость внешнеполитического курса страны от руководящей политической элиты рассматривается во многих исследованиях в разных аспектах:
-
– политические портреты деятелей стран Ближнего и Среднего Востока: Мустафы Барзани (Е.М. Примаков), Гамаля Абделя Насера (А.Г. Бакланов), Хабиба Бургиба (М.Ф. Видясова), Башара Асада (Б.В. Долгов), Голды Меир (И.Д. Звягельская), Хуари Бумедьена (Ю.Н. Зинин), Ицхака Рабина (Т.А. Карасова), Валида Джумблата (А.А. Кузнецов), Ахмеда бен Беллы (Р.Г. Ланда), Кабуса бен Саида (С.Н. Плеханов), Реджепа Тайипа Эрдогана (Л.Р. Садыкова, Э.Д. Эшба), Абделя Азиза Бутефлики (М.А. Сапронова)1;
-
– личность лидера как ключевой фактор в процессе принятия внешнеполитических решений2;
-
– влияние политической элиты на формирование внешнеполитического курса государства (Канкиа, 2015);
-
– роль политического лидера в формировании внешнеполитического курса (Рожкова, Лазько, 2018) и др.
Приход к власти ПСР во главе с Р.Т. Эрдоганом – харизматичным лидером, адептом «умеренного исламизма» – продемонстрировал верность основам политики ТР: сильной централизованной власти и потребности турок в харизматических правителях. «Эрдоган – упрямый и последовательный, верный религиозному воспитанию в семье и религиозном лицее имам-хатыбов, всегда проявлял религиозность и со студенческих лет примкнул к политикам-исламистам» (Надеин-Раевский, 2017: 138). Но его «имперские амбиции», гибкость и способность маневрировать во внешней политике Турции позволили трансформировать политику во отношении государств ЦА.
Четвертая особенная причина модификации внешнеполитических усилий ТР в отношении государств ЦА в 1991–2022 гг. заключается в борьбе происламских партий и кемалистов на политической арене Турции, трансформации их основных идеологических программ . После переворота 12 сентября 1980 г. к началу 90-х гг. ХХ в. Турция претерпела коренные изменения в политической структуре, экономической системе, социальной религиозной сфере, а также во внешней политике. Страна изменила позицию со стойкой прозападной ориентации на роль ведущего игрока, способного оказать влияние на обширный регион от Восточной Европы до Западного Китая. Это было ответом на критику со стороны США и ЕС за отчужденность в мире и во внешней политике, что способствовало поиску руководителями ТР альтернатив во внешней политике. Однако республика пыталась сохранить традиционные связи, подстроить их под национальные потребности, но при этом защитить внутреннюю политику от вмешательств извне.
К началу 90-х гг. ХХ в. ТР стала более открытой для международного воздействия и критики из-за экономической политики и желания стать полноправным членом ЕС. Период руководства Т. Озала можно обозначить как некоторое возвращение Турцией своего места среди европейских стран. При этом на отношения с последними влияли взаимодействия Турции с Грецией. В то время усиливались дискуссии по поводу турецкой идентичности, обсуждались этнические и религиозные аспекты. Распространяющийся на Юго-Востоке Турции этнический радикализм и обозначенные международные связи наложили ограничения на проведение внешней политики. Осведомленность о турецкой военной мощи в начале 1990-х гг. стала подпитывать идею Турции как региональной державы. Несмотря на внутренние изменения и перемены, диктуемые извне, республика стремилась сохранить основополагающие параметры внешней политики (Aydin, 2005).
В отношении турецких партий и их ведущих идеологем можно отметить следующую трансформацию.
-
– Партия благоденствия (ПБ) (руководитель – Н. Эрбакан), игравшая главенствующую роль в турецкой политике в 80–90-х гг. ХХ в. и являвшаяся происламской партией, провозгласила антизападный курс.
-
– С ликвидацией ПБ ее парламентская фракция присоединилась к Партии добродетели (ПД) (во главе с Р. Кутаном, последователем Н. Эрбакана), основанной в конце 1997 г. ПД стала в прямом смысле слова политической наследницей ПБ, но во многих отношениях отличалась от всех предшествующих исламистских политических объединений, прежде всего в отношении к Западу, выступая как исламская партия, но проевропейская и проамериканская, провозглашавшая либеральные ценности (Huntington, 1993). Политический курс ПД был оборонительным, эволюционным (Шлыков, 2017).
-
– Партия справедливости и развития, лидером которой стал экс-мэр Стамбула Р.Т. Эрдоган, была официально зарегистрирована 14 августа 2001 г. и одержала победу на всеобщих выборах в ноябре 2002 г., набрав рекордные 34,4 % голосов (Шлыков, 2008). Главные тезисы идеологии ПСР были во многом взяты у ПБ и ПД, но представляли широкую коалицию разных слоев
турецкого населения. Лидеры ПСР приводили в пример Демократическую партию (1946–1960 гг.) в 1950-е гг., Партию справедливости (1961–1981) в 1960-е, Партию отечества (основанную в 1983 г.) в 1980-е гг. – все это были правоцентристские силы, обладавшие в свое время широкой общественной поддержкой и занимавшие лидирующие позиции в политической жизни страны (Heper, 1997: 37). В декларации ПСР, названной Программой демократии и развития, главным политическим приоритетом был провозглашен демократический консерватизм, при этом демократия понималась широко – это новая установка, которая позволит не допустить давления на политическую систему со стороны судебной власти и армии. ПСР представлялась как «постисламистское движение, оставляющее исламские принципы в социальной сфере, но избавляющееся от них в политической программе» (Иванова, 2008).
Таким образом, борьба исламистов и кемалистов, развитие политического ислама в ТР в 1991–2022 гг. демонстрируют большие идеологические проблемы и противоречия во внутриполитическом процессе развития ТР в тот период, что влияло и на весь внешнеполитический курс Турции, в том числе на взаимодействие с государствами ЦА – на его направления, интенсивность, характер.
Пятой особенной причиной модификации внешнеполитических усилий ТР в отношении государств ЦА в 1991–2022 гг. стала многовекторность всей внешней политики ТР . Предвыборная декларация правящей ПСР от 2011 г. говорит о том, что Турция является не просто страной на пространстве Ближнего Востока, а государством с ярко выраженным потенциалом для самостоятельного развития, в том числе в роли не только регионального лидера, но и мирового (Турция: новые реалии…, 2014). При этом «разворот на Восток» – это еще одно понятие, которым принято характеризовать современный внешнеполитический курс ТР.
Среди основных направлений реализации внешней политики ТР за период 1991–2022 гг. можно выделить следующие (Аскерова, 2019; Барнашов, 2013; Темникова, 2019; Парланова, 2017).
-
– Турецко-американское и турецко-европейское (США и страны ЕС).
-
– Турецко-арабское (отношения с соседями – государствами Ближнего Востока и старыми партнерами, например Саудовской Аравией и Катаром, Сирией и Ираком1) (Иванова, 2017). «Разнообразие в современных отношениях Турции с арабскими странами Леванта определяется логикой развития глобальной системы управления, задающей направления и рамки внешнеполитического курса составляющих ее региональных центров. Лояльные к глобализации страны привязываются к ближайшему “геостратегическому опорному узлу” через отношения кооперации, предполагающие определенные формы финансово-экономических обменов (например, Иордания). Государства, не принимающие навязываемой извне модели интеграции, подвергаются дипломатическому, экономическому прессингу со стороны глобальной системы управления, зачастую переходящему в срежиссированные вооруженные восстания и внешние военные интервенции (например, Сирия)»2.
-
– Турецко-центральноазиатское (государства ЦА).
-
– Турецко-африканское (страны Африки). На Африканском континенте, богатом природными ресурсами, Турция успешно реализует внешнюю политику с 1998 г.
-
– Турецко-азиатско-тихоокеанское. Турция с особым интересом смотрит в сторону Азиатско-Тихоокеанского региона, в частности Китая.
-
– Турецко-российское. РФ всегда была особенно значимым государством для ТР еще и потому, что Турция всегда проявляла большой интерес к российским регионам с преобладающим тюркоязычным населением, исповедующим ислам. На них ТР стремится распространить влияние в рамках формирования проекта под названием «Тюркский мир».
Перспективными и в последнее время (в 20-х гг. ХХI в.) привлекающими внимание руководства ТР можно считать следующие отношения: турецко-греческие и турецко-армянские.
Отметим, что во внешнеполитической деятельности ТР имеют место кризисы и конфликты, которые, по мнению С.В. Венцеля (2018), являются результатом внутренних противоречий и споров элиты и общества о специфике турецкого государства и возможностей его развития.
Однако при наличии споров и противоречий Турция стремится в мировые ведущие организации (ШОС3), хотя уже является членом ООН, Организации исламского сотрудничества, Организации экономического сотрудничества и развития, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, Совета Европы (с 1949 г.), НАТО (с 1952 г.), Европейского таможенного союза, Группы 20 промышленно развитых стран, которая объединяет 20 крупнейших экономик мира,
Всемирной торговой организации, Делового совета Черноморского экономического сотрудничества и др.1 В декабре 2000 г. Турция стала государством-наблюдателем в Ассоциации карибских государств (ACS). В 2017 г. секторальное диалоговое партнерство АСЕАН – Турция было признано на 50-й встрече министров иностранных дел стран АСЕАН в Маниле (Филиппины).
Таким образом, многовекторная внешняя политика ТР имеет как позитивные аспекты, так и негативные. Однако именно многовекторность позволила ТР за последние 30 лет выйти к пониманию и реализации идей повышения значимости для турецкого внешнеполитического курса глобальных интересов; встроенности в формирующуюся систему глобального управления; сохранения независимости внешней политики от воли ведущих мировых держав. «Содержание современной внешней политики Турции определяется комплексом факторов, порождаемых, с одной стороны, ее высоким уровнем интеграции в глобальную общность государств и географических зон, объединенных в единое целое и придерживающихся общей линии политического поведения, что делает Турецкую Республику одним из “геостратегических опорных узлов” со своей зоной ответственности, а с другой, усиливающейся поддержкой интеграционных процессов со стороны ведущих турецких политических сил, в том числе Партии справедливости и развития, выступающей за полное включение страны в глобальное сообщество при сохранении традиционных исламских ценностей»2.
Заключение . В результате исследования выявлены общие причины модификации внешнеполитических усилий ТР в отношении государств ЦА в 1991–2022 гг. :
-
– события в мировой истории или истории одной либо нескольких стран (распад СССР) ;
-
– изменения в отношениях между странами (Турции с государствами мира, в том числе с региональными соседями, после холодной войны с США и СССР) ;
-
– появление или уход новых субъектов международных отношений (формирование новых акторов международной политики – государств в Центральной Азии и на Южном Кавказе);
-
– представление эволюции политики государства как генезиса идей чаще всего в результате смены правительства, революции, переворота ;
-
- стремительный научно-технический прогресс, развитие информационно-коммуникационных технологий, Интернета, доступность информации и формирование новых методов взаимодействия с обществом .
Среди особенных причин модификации внешнеполитических усилий ТР в отношении государств ЦА в 1991–2022 гг . следует выделить такие:
-
– диверсификация внешних связей ТР в целях усиления геополитической роли ТР в мире ;
-
– ренессанс идей пантюркизма во внешней политике ТР ;
-
– вариативность и частая сменяемость правящих партий, основополагающих институтов власти, лидеров, что обусловило отсутствие внешнеполитических инвариантов и констант в реализации внешнеполитического курса ТР ;
-
– борьба происламских партий и кемалистов на политической арене Турции, трансформация их основных идеологических программ ;
-
– многовекторность внешней политики ТР в обозначенный период .
Выявленные причины модификации внешнеполитических усилий ТР в отношении государств ЦА в 1991–2022 гг. позволяют сделать следующие выводы.
Во-первых, за 30 лет была проделана большая работа по определению места государств ЦА в мировой политике, развитию их национальных экономик и политического статуса. Меры в данном направлении реализованы не только со стороны государств ЦА, но в первую очередь со стороны ТР и турецкой политической, финансовой и духовной элиты. Помощь республики должна быть высоко оценена в мировом сообществе.
Во-вторых, опыт внешнеполитической деятельности в отношении государств ЦА в 1991– 2022 гг. позволяет спрогнозировать направления совместной эффективной деятельности с нез-висимыми государствами Центральной Азии не только для ТР, но и для РФ, а также для других акторов мировой политики.
В-третьих, причины модификации внешнеполитических усилий ТР в отношении государств ЦА в обозначенный период позволяют учесть их и избежать негативных вариантов развития любой страны, сгладить трансформации, добиться стабильности и константности в межгосударственных взаимодействиях, обеспечить долгосрочное прогнозирование эффективной деятельности государств.
Список литературы Причины модификации внешнеполитических усилий Турецкой Республики в отношении государств Центральной Азии в 1991-2022 гг
- Аватков В.А., Бадранов А.Ш. «Мягкая сила» Турции во внутренней политике России // Право и управление. XXI век. 2013. № 2 (27). С. 5–10.
- Аскерова Э.Ф. Эволюция внешней политики Турции в XXI в. // Вопросы политологии. 2019. Т. 9, № 12 (52). С. 2803–2807. https://doi.org/10.35775/PSI.2019.52.12.026.
- Баканова А.С. Эволюция информационного противоборства как инструмента внешней политики: исторический аспект // Вопросы политологии. 2020. Т. 10, № 8 (60). С. 2584–2590. https://doi.org/10.35775/PSI.2020.60.8.021.
- Барнашов О. Особенности внешнеполитического процесса в современной Турции // Россия и мусульманский мир. 2013. № 9 (255). С. 107–116.
- Богатуров А.Д., Лебедева О.В., Бобров А.К. Эволюция доктринальных основ внешней политики России // Международная жизнь. 2022. № 2. С. 8–25.
- Бойков С.С. Эволюция внешней политики России в отношении стран Балтии на современном этапе // Проблемы постсоветского пространства. 2020. Т. 7, № 3. С. 389–406. https://doi.org/10.24975/2313-8920-2020-7-3-389-406.
- Буров А.А. Комплементаризм как принцип политики стран Южного Кавказа (конец ХХ – начало XXI в.) // Известия высших учебных заведений. Северо-Кавказский регион. Общественные науки. 2008. № 1 (143). С. 36–38.
- Вахитова Г.А. Взаимодействие Турции со странами Центральной Азии // Известия вузов (Кыргызстан). 2010. № 1. С. 189–192.
- Венцель С.В. Кризисы во внешней политики Турции на современном этапе // Социально-гуманитарные знания. 2018. № 11. С. 154–163.
- Володькин А.А. Эволюция внутренней и внешней политики стран Прибалтики после вступления в Евросоюз // Беларусь в современном мире: материалы XIV Междунар. науч. конф. Минск, 2016. С. 28–29.
- Геворкян О. Эволюция внешней политики Армении // 30-летие конфликта в Нагорном Карабахе: сб. науч. ст. / под ред. К.П. Курылева. М., 2019. С. 139–150.
- Гулидов А.Ю. Эволюция концепции внешней политики Российской Федерации // Наука и образование в современном вузе: вектор развития: сб. материалов науч.-практ. конф. / отв. ред. Е.А. Шмелева. Шуя, 2023. С. 41–44.
- Дегтерев Д.А., Савичева Е.М., Матева И.М. Динамический хаос, конфликты на Большом Ближнем Востоке и механизмы глобального управления в XXI в. (материалы экспертного семинара и ситуационного анализа РУДН) // Вестник Российского университета дружбы народов. Сер.: Международные отношения. 2015. Т. 15, № 3. С. 9–23.
- Дейч Т.Л., Верташов Ю.Д. Эволюция внешней политики африканских стран: новые тенденции в условиях роста влияния Африки в мире // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность. 2017. № 6. С. 152–161. https://doi.org/10.7868/S0869190817060139.
- Джакупов Т. Политическое сотрудничество Турции и Ирана со странами центральноазиатского региона // Постсоветские исследования. 2019. Т. 2, № 3. С. 1119–1129.
- Джилавян А.С. Неоосманская доктрина и геополитические интересы Турции в Закавказье и Центральной Азии // Вестник Российско-Армянского (Славянского) университета: гуманитарные и общественные науки. 2014. № 2 (17). С. 79–90.
- Дюсупов Ш.К. Неоосманизм во внешней политике Турции // Вестник КазНПУ. 2017. № 1.
- Жусипбек Г. В поисках приемлемой модели отношений между государством и религией для постсоветской Центральной Азии: уроки Турции // Центральная Азия и Кавказ. 2013. Т. 16, № 4. С. 32–45.
- Иванова И.И. Основные направления внешней политики Партии справедливости и развития // Турция накануне и после парламентских выборов 2007 г.: сб. ст. / отв. ред. А.В. Болдырев, Н.Ю. Ульченков. М., 2008. С. 168 –182.
- Иванова И.И. Эволюция ближневосточной политики Турецкой Республики (1923–2016). М., 2017. 423 с.
- Ирхин А.А. Эволюция внешней политики турецкой Республики в 2002–2019 гг. // Причерноморье: история, политика, география, культура: сб. материалов ХVII Междунар. науч. конф. «Лазаревские чтения» / под ред. О.А. Шпырко, В.В. Хапаева, А.В. Мартынкина, С.В. Ушакова, И.Л. Прыгуновой, С.И. Рубцовой. Севастополь, 2019. С. 144 –146.
- Исра Ш.Ч. Концепции национализм и модернизация в Турции // Вестник развития науки и образования. 2019. № 3. С. 10–16.
- Канкиа А.Г. Влияние политической элиты на формирование внешнеполитического курса государства // Гуманитарные научные исследования. 2015. № 3 (43). С. 86–91.
- Кириллова М.П. Эволюция внешней политики современной Турции // Гуманитарный акцент. 2018. № 4. С. 14 –20.
- Козлов К.В. Концепция «умной силы» и эволюция внешней политики США // Россия и Америка в XXI в. 2018. № 1. С. 6.
- Лукьянова Я.А. Эволюция внешней политики США: переход от hard power и soft power к smart power // Научное сообщество студентов XXI столетия. Общественные науки: сб. ст. по материалам CV Студенческой междунар. науч.-практ. конф. Новосибирск, 2021. С. 4–8.
- Маврина Ю.В. Концепция внешней политики Турции Ахмета Давутоглу // Известия Саратовского университета. Новая серия. Сер.: История. Международные отношения. 2014. Т. 14, № 1. С. 69–75.
- Малышева Д.Б. Международно-политическое взаимодействие государств Центральной Азии с Турцией и Ираном // Россия и новые государства Евразии. 2017. № 3. С. 46–58.
- Малышева Д.Б. Центральноазиатский узел мировой политики. М., 2010. 100 с.
- Мехдиев Э.Т. «Неоосманизм» в региональной политики Турции // Вестник МГИМО-Университета. 2016. № 2 (47). С. 32–39.
- Михайленко В.И. Испытание империей: эволюция российской внешней политики // Koinon. 2022. Т. 3, № 3–4. С. 7–24. https://doi.org/10.15826/koinon.2022.03.3.4.027.
- Мосаки Н.З. Турция и Африка // Азия и Африка сегодня. 2010. № 6 (635). С. 10–17.
- Москаленко В.А. «Мягкая сила» Турции в интеграционных процессах в Центральной Азии // Большая Евразия: развитие, безопасность, сотрудничество: ежегодник / отв. ред. В.И. Герасимов. М., 2021. Вып. 4, ч. 1. С. 128–139.
- Москаленко В.А. Влияние последствий региональных конфликтов на Ближнем Востоке на политику Турецкой Республики / под ред. А.В. Штанова. М., 2018. 208 с.
- Москаленко В.А. Роль Турецкой республики в урегулировании региональных конфликтов в международных отношениях. М.; СПб., 2016. 78 с.
- Москаленко В.А. Роль Турции в современном векторе международных отношений в Центральной Азии с позиции анализа политического статуса и особенностей внешнеполитических концепций центральноазиатских стран // Вестник Института мировых цивилизаций. 2020. Т. 11, № 4 (29). С. 56–61.
- Муса кызы А.М., Оморова С.О. Эволюция содержания понятия «мягкая сила» в турецкой политической мысли // Известия вузов (Кыргызстан). 2015. № 9. С. 126–129.
- Мутьева В.В. Эволюция концепций внешней политики России в 2000–2016-х гг. // Тенденции развития науки и образования. 2018. № 38-1. С. 55–59. https://doi.org/10.18411/lj-05-2018-21.
- Надеин-Раевский В.А. История пантюркизма и его современные сторонники. Ч. 2. Новый этап пантюркистских надежд // Перспективы. Электронный журнал. 2022. № 2 (29). С. 94–108. https://doi.org/10.32726/2411-3417-2022-2-94-108.
- Надеин-Раевский В.А. Р.Т. Эрдоган как пример политика-харизматика // Контуры глобальных трансформаций: политика, экономика, право. 2017. Т. 10, № 6. С. 138–154. https://doi.org/10.23932/2542-0240-2017-10-6-138-154.
- Насибова А.С. Эволюция идей пантюркизма во внешней политике Турецкой республики // Современные евразийские исследования. 2015. № 3. С. 113–118.
- Нечай В.Н. Эволюция внешней политики России в Средней Азии в рамках ЕАЭС // Социокультурные проблемы современного российского общества: сб. ст. Астрахань, 2016. С. 30–36.
- Парланова А.Т. Отличительные особенности внешнеполитической стратегии Турции на современном этапе // Актуальные проблемы современных международных отношений. 2017. № 9. С. 46–52.
- Рожкова Л.В., Лазько Р.А. Роль политического лидера в формировании внешнеполитического курса // Вестник Пензенского государственного университета. 2018. № 1 (21). С. 50–53.
- Савичева Е.М. К вопросу о геополитической ситуации на Ближнем Востоке: взаимодействие региональных и глобальных тенденций // Вестник Российского университета дружбы народов. Сер.: Международные отношения. 2014. № 3. С. 14–21.
- Саримсоков З. Тюркский фактор в политике мягкой силы Турции в отношениях со странами Центральной Азии // Постсоветские исследования. 2020. Т. 3, № 7. С. 609–615.
- Султанов Ш.М. Геостратегия Турции в регионе Центральной Азии: провал политики пантюркизма и уроки экономического прагматизма // Экономика и управление: проблемы, решения. 2017. Т. 2, № 9. С. 39 –44.
- Темникова Ю.В. Направления и особенности внешней политики Турции на современном этапе // Вопросы истории, археологии, политических наук и регионоведения: сб. материалов XIV Всерос. (с междунар. участием) науч. конф. студентов, магистрантов, аспирантов и молодых ученых. Вып. 14: в 2 т. Томск, 2019. Т. 2. С. 78–82.
- Турция: новые реалии во внутренней политике и участие в региональных геополитических процессах: материалы междунар. конф. / под ред. В.А. Аваткова, С.Б. Дружиловского, А.В. Федорченко. М., 2014. 252 с.
- Фатыхов Д.Р. Эволюция информационной политики ЕС в контексте внешних вызовов и угроз // Вопросы политологии. 2018. Т. 8, № 9 (37). С. 673–680.
- Федорова С.И. Эволюция антисоветских экономических санкций как инструмента внешней политики США после окончания второй мировой войны (исторический аспект) // Вопросы национальных и федеративных отношений. 2017. № 3 (38). С. 33–38.
- Хандогин К.Ю. Эволюция концепции экспорта исламской революции в контексте внешней политики ИРИ 1990-х гг. // Власть. 2011. № 11. С. 167–169.
- Худолей К.К. Эволюция идеи мировой революции в политике советского Союза (эпоха Коминтерна и социализма в одной стране) // Вестник Санкт-Петербургского университета. Международные отношения. 2017. Т. 10, № 2. С. 145 –165. https://doi.org/10.21638/11701/spbu06.2017.205.
- Чмырева В.А. «Новый османизм» во внешней политике Турции: эволюция концепции в XXI в. // Современные проблемы международных отношений и мировой политики: материалы 11-й Межвуз. науч. конф. студентов, аспирантов и молодых ученых / под ред. М.А. Шпаковской. М., 2016. С. 278–288.
- Шлыков П.В. Проблема консолидации власти в Турции: до и после попытки военного переворота в июле 2016 г. // Труды Института востоковедения РАН. 2017. № 5. С. 404–422.
- Шлыков П.В. Эволюция концепции политического ислама в Турции // Турция накануне и после парламентских выборов 2007 г.: сб. ст. / отв. ред. А.В. Болдырев, Н.Ю. Ульченков. М., 2008. С. 115–148.
- Acar H. Türk Dış Politikası. Ankara, 2020. 630 p.
- Avşar Z.B., Solak F. Türkiyeve Türk Cumhuriyetleri. Ankara, 1994. 284 p.
- Aydin M. Turkish foreign policy at the end of the Cold War: Roots and dynamics // The Turkish Yearbook of International Relations. 2005. No. 36. P. 1–36. https://doi.org/10.1501/0002571.
- Bilgin P. Only strong states can survive in Turkey’s geography: The uses of geopolitical truths in Turkey // Political Geography. 2007. Vol. 26, no. 7. P. 740–756. https://doi.org/10.1016/j.polgeo.2007.04.003.
- Heper M. Islam and democracy: Toward a reconciliation? // Middle East Journal. 1997. Vol. 51, no. 1. P. 32–45.
- Huntington S.P. The Clash of Civilizations? // Foreign Affairs. 1993. Vol. 75, no. 6. P. 28–34.
- Karpat K.H. Türkye ve Orta Asya. Istanbul, 2014. 336 p.
- Moskalenko V.A. Xx. Yüzyılın 90’lı Yıllarından Xxi. Yüzyılın Başına Kadar Türkiye Cumhuriyeti Ile Orta Asya Ülkeleri Arasındaki Siyasi, Sosyo-Ekonomik, Dini Ve Kültürel Etkileşim Türlerin Ve Yöntemlerin Özellikleri // Current Debates on Social Sciences 7. Human
- Studies / ed. by Z. Karacagil. Ankara, 2021. Р. 226–245.
- Oran B., Ünsal Ü. Türk Dış Politikası. Vol. 3. 2001–2012. Istanbul, 2013. 885 p.
- Özkan G. Turkish foreign policy in Central Asia and the Caucasus within the context of the New Great Game and energy security. Bursa, 2010. 128 p.
- Türk Dış Politikası. Vol. 2. 1980–2001 / B. Oran, M. Aydın, G.T. Alpkaya, E. Tellal, M. Fırat. Istanbul, 2001. 637 p.