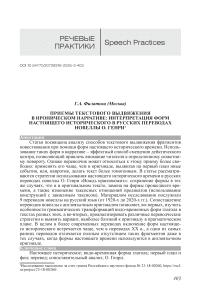Приемы текстового выдвижения в ироническом нарративе: интерпретация форм настоящего исторического в русских переводах новеллы О. Генри
Автор: Г.А. Филатова
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Речевые практики
Статья в выпуске: 3 (74), 2025 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена анализу способов текстового выдвижения фрагментов повествования при помощи форм настоящего исторического времени. Использование таких форм в нарративе – эффектный способ смещения дейктического центра, позволяющий привлечь внимание читателя к определенному сюжетному повороту. Однако переводчик может относиться к этому приему более свободно: применять его чаще, чем в оригинале, выдвигая на первый план иные события, или, напротив, делать текст более гомогенным. В статье рассматриваются стратегии использования настоящего исторического времени в русских переводах новеллы О. Генри «Вождь краснокожих»: сохранение формы в тех же случаях, что и в оригинальном тексте, замена на формы прошедшего времени, а также изменение таксисных отношений предикатов (использование конструкций с зависимым таксисом). Материалом исследования послужили 9 переводов новеллы на русский язык (от 1920-х до 2020-х гг.). Сопоставление переводов новеллы с англоязычным оригиналом позволяет, во-первых, изучить особенности грамматических трансформаций видо-временных форм глагола в текстах разных эпох, а во-вторых, проанализировать различные переводческие стратегии и выявить вариант, наиболее близкий к оригиналу в прагматическом плане. В целом в более современных переводах включение форм настоящего исторического встречается чаще, чем в переводах XX в., а один из самых ранних переводов отличается полным отсутствием таких фрагментов даже в тех случаях, когда формы настоящего времени используются в англоязычном оригинале.
Настоящее историческое, видо-временная форма глагола, первый план и фон, перевод, сопоставительный анализ, О. Генри
Короткий адрес: https://sciup.org/149149409
IDR: 149149409 | DOI: 10.54770/20729316-2025-3-403
Текст научной статьи Приемы текстового выдвижения в ироническом нарративе: интерпретация форм настоящего исторического в русских переводах новеллы О. Генри
Present historical tense; verb tense; theory of grounding; translation studies; comparative analysis; O. Henry.
В рамках фикционального текста для привлечения внимания читателя важно выделить какие-либо элементы сюжета не только за счет нестандартных смысловых поворотов, но и при помощи собственно лингвистических средств. Совокупность приемов для достижения подобной цели можно назвать текстовым выдвижением. Как определяет И.В. Арнольд, выдвижение – это «способы формальной организации текста, фокусирующие внимание читателя на определенных элементах сообщения и устанавливающие семантически релевантные отношения между элементами одного или чаще разных уровней» [Арнольд 1981, 61]. С прагматической точки зрения успешно влиять на адресата (то есть выдвигать какие-либо сюжетные фрагменты, делать их более «выпуклыми» и запоминающимися) позволяет «включение» читателя в хронотоп повествуемого с целью произвести на него определенное впечатление, создать иллюзию присутствия читателя в сюжетном повороте.
Одним из наиболее ярких приемов, работающих на создание подобной иллюзии, является включение в стандартный повествовательный нарратив форм настоящего времени глагола. Событие, обозначенное глаголом такой формы, значительно выделяется из ряда аналогичных по времени событий. Здесь следует упомянуть теорию организации первого плана и фона в тексте (Theory of Grounding, см.: [Hopper,
Thomson 1980]), где выдвижение некоторой информации на первый план позволяет провести функциональное разграничение между типами употребления настоящего времени, и использование настоящего нарративного времени – это включение настоящего времени в повествование о прошлом для выделения события (приближение первого плана).
В целом термин «настоящее историческое время» и его функции рассматривается во многих лингвистических работах. При этом большинство исследователей трактует этот термин с позиции языкового механизма данного явления – несоответствия формы контексту. А.В. Бондарко подчеркивает, что подобное переносное использование связано именно с «расхождением между временным значением глагольной формы и темпоральностью контекста» [Бондарко 1971, 129]. При этом А.В. Уржа убедительно показывает, что настоящее историческое не употребляется «в вакууме», изолированно. Его использование тесно соотносится с рядом других функциональных средств , поддерживающих основную задачу – выдвижение определенного текстового фрагмента на первый план, акцент на каком-то конкретном сюжетном повороте [Уржа 2015].
Классический термин «настоящее историческое» подразумевает транспозицию, переносное употребление настоящего времени в контексте прошедших событий. При использовании и форм настоящего, и форм прошедшего времени читатель является синхронным наблюдателем. Различие в том, что форма настоящего времени как бы приглашает адресата к участию в ситуации, создавая видимость общего поля зрения, а прошедшее время отдаляет адресата от места действия. Прошедшее нарративное время устанавливает временную и пространственную дистанцию между ситуацией и адресатом, а настоящее историческое приглашает адресата наблюдать ситуацию вблизи [Падучева 2010]. В случае применения форм подобного «настоящего» времени происходит сдвиг не только по темпоральной оси (весь рассказ ведется в прошедшем времени, а некоторые фрагменты осознаются как настоящее), но и по пространственной: автор как бы переносит читателей к месту действия, где они наблюдают за развитием сюжета прямо из той же точки, в которой находятся и персонажи, приближает читателей к происходящему [Chvany 1990].
Настоящее историческое (нарративное) можно трактовать как относительное употребление формы времени: форма настоящего времени в этом употреблении соотносит ситуацию не с моментом речи, как в исходном, речевом значении, а с некоторым моментом, фиксированным в контексте. Сама форма настоящего исторического задает тот временной момент, который используется для последующих отсылок.
Использование настоящего исторического времени в нарративе – эффективный способ смены позиции читателя, позволяющий привлечь внимание адресата к определенному сюжетному повороту. Однако переводчик может относиться к этому приему более свободно : применять его чаще, чем в оригинале, выдвигая на первый план иные события, или, напротив, «сглаживать» повествование. В нашем исследовании мы рассмотрим стратегии использования настоящего исторического времени в русских переводах новеллы О. Генри «The Ransom of Red Chief» (впервые опубликована в 1907 г.). В качестве материала было привлечено 9 переводов: «Вождь краснокожих» (В. Азов (1923), А. Горлин (1932), М. Лорие (1945), Н. Дарузес (1946), А. Климов (2013) и О. Майдель (указывается как редактор в переиздании перевода А. Горлина, но данный текст фактически является новым вариантом; (2022)), «Выкуп вождя краснокожих» (З. Львовский (1925), Н. Давыдова (1926)), «Выкуп за рыжего вождя» В . Евменов (2012)).
Кратко напомним сюжет новеллы. Два мелких преступника, Билл и Сэм, похищают девятилетнего мальчика по имени Джонни, рыжеволосого сына важного гражданина Эбенезера Дорсета, и удерживают его ради выкупа. Но в тот момент, когда они с мальчиком прибывают в свое убежище, план рушится, поскольку ребенку начинает нравиться его «похищенное» состояние. Называя себя «Вождь краснокожих», мальчик сводит своих похитителей с ума болтовней, злобными розыгрышами и требует, чтобы они играли с ним в утомительные игры: пытается снять с Билла скальп, притворяясь индейским разведчиком, швыряется камнями из пращи, требует от Билла изображать лошадь и катать его на спине. Комичность ситуации еще больше возрастает от того, что злодеи оказываются совершенно беспомощными перед детской непосредственностью. Преступники пишут письмо отцу мальчика с требованием выкупа, снижая сумму выкупа, полагая, что тот не заплатит много денег за возвращение такого ребенка. Однако отец, который хорошо знает своего сына и понимает, насколько невыносимым он будет для своих похитителей, отклоняет их требование и предлагает забрать мальчика, если они заплатят ему. Ирония заключается в том, что похитители должны заплатить родителю, чтобы вернуть ребенка (фактически за то, чтобы он согласился просто принять его обратно), вместо того чтобы отец заплатил им за возвращение своего сына. Однако незадачливые герои соглашаются отдать деньги и плачущего мальчика – который на самом деле был счастливее вдали от своего строгого отца – и убегают.
Новелла оформлена в перволичном нарративе: практически всё повествование построено при помощи форм прошедшего времени – это рассказ одного из неудачливых киднепперов об их бурной молодости. Более того, он рассказывает это не как непосредственный наблюдатель, это именно рассказ о прошлом, на что указывают фразы в самом начале повествования: «Но погодите, дайте я вам сначала расскажу», «Должно быть, как говаривал потом Билл, “нашло временное помрачение ума”, – только мы-то об этом догадались много позже» (Н. Дарузес).
Излагаются события, конкретное временное размещение которых не столь важно и не имеет принципиального значения, поэтому прошедшее нарративное наиболее удачно подходит для этого: присутствует момент отстраненности, при котором возможно осмысление произошедшего и изложение его уже с определенной интерпретацией. При этом подобная нарративная рамка предполагает, что создается иллюзия взаимодействия с читателем: есть некая точка отсчета, в которой происходит ситуация рассказывания истории, и течение времени в самой этой истории; а как мы далее увидим, обнаружится и смещение временных планов. Настоящее историческое, как пишет Падучева, сдвигает дейктический центр в прошлое – во время события, и в нарративе с базовым прошедшим временем повествователь тоже «видит» события в синхронной перспективе [Падучева 2010].
Переходы от стандартного прошедшего времени повествования к настоящему историческому и драматическому (на правомерность разграничения терминов «настоящее драматическое» и «настоящее историческое» указывает, в частности, К. Чвани [Chvany 1990]), а также использование настоящего времени для временной локализации ситуации или действия помогают повествователю соотнести себя с героем (поскольку это один и тот же человек), а также способствуют вовлечению читателя в сюжет: действия, обозначенные глаголами, поставленными в тексте в настоящем времени, осознаются как происходящие в момент речи [Carreiras, Carriedo, Angeles Alonso и др. 1997]. Таким образом, у читателя формируется впечатление причастности к описываемой ситуации, так как она осознается как эквивалентная реальной, а изменения в таксисной структуре при переводе задают определенное читательское восприятие, отношение к тому или иному событию как к первостепенному (находящемуся на первом плане) или как к фоновому.
Из субъективности взгляда на мир следует характерный для перволичной формы повествования «эффект оправдания» [Атарова, Лесскис 1976]. Повествователь может заведомо смягчать какие-либо неблаговидные аспекты своих действий или ситуации в целом, чтобы придать своим словам большую весомость в глазах адресата, или снизить степень возможного осуждения. Кроме того, позиция «я видел, я точно знаю» существенно повышает меру персуазивности, то есть воспринимается читателем как эпистемическая оценка с положительным знаком (достоверность высказывания принимается безоговорочно). Применительно к анализируемому нами рассказу такое свойство перволичной формы доказывается в полной мере. Если рассматривать ситуацию «похитить ребенка для того, чтобы получить за него выкуп» с традиционной точки зрения, то это, мягко говоря, крайне неблаговидное дело даже на уровне замысла. Однако благодаря перволичному построению новеллы мы не воспринимаем это таким образом. Напротив, мы даже сочувствуем незадачливым похитителям, которые не только не смогли реализовать свой преступный план, но и сами оказались пострадавшими.
В основном формы настоящего нарративного в новелле оформляют диалогические фрагменты. Вероятно, такой формат наилучшим образом передаёт типичную ситуацию пересказа диалога: «А он мне говорит… А я ему говорю…». Всего таких фрагментов в новелле 12, к некоторым из них примыкает повествование, в котором для описания действий персонажей используются уже не речевые, а другие акциональные глаголы.
В примере в таблице 1 представлена схема, которая встречается чаще всего: диалогическое единство либо целиком оформляется в прошедшем нарративном – все глаголы, вводящие речь, стоят в форме прошедшего времени, либо в настоящем нарративном. Вероятно, это связано с идеей передачи некоторой спонтанности рассказа, при которой повествователь не слишком задумывается при оформлении подобных конструкций – для него важнее именно содержание реплик.
Таблица 1
|
O. Henry |
Н. Давыдова |
Н. Дарузес |
|
As I was about to start, the kid comes up to me and says : “Aw, Snake-eye, you said I could play the Black Scout while you was gone.” “Play it, of course,” says I. “<…> What kind of a game is it?” “I'm the Black Scout,” says Red Chief, “and I have to ride… <…>” “All right,” says I. |
Перед самым уходом мальчишка подошел ко мне и сказал : – Змеиный глаз, ведь ты позволил мне играть в черного разведчика <…>? – Разумеется, играй, – ответил я, – <…> Кстати, что это за игра? – Я черный разведчик, – объяснил вождь краснокожих, – и мне нужно доскакать до поселка <…>. – Ладно, – сказал я. |
Когда я уже собрался в путь, мальчишка подходи т ко мне и говорит : – Змеиный Глаз, ты сказал, что мне можно играть в разведчика – Играй, конечно, – говорю я. – <…> А что это за игра такая? – Я разведчик, – говорит Вождь Краснокожих, – и должен скакать на заставу <…>. – Ну, ладно, – говорю я. |
Второй пример иллюстрирует фрагмент сюжета, предваряющий диалог.
Таблица 2
|
O. Henry |
М. Лорие |
А. Климов |
|
There was a fire burning behind the big rock at the entrance of the cave, and the boy was watching a pot of boiling coffee, with two buzzard tailfeathers stuck in his red hair. He points a stick at me when I come up, and says : “Ha! cursed paleface, do you dare to enter the camp of Red Chief, the terror of the plains?” |
За большим камнем, закрывавшим вход в пещеру, горел костер, и мальчишка, воткнув себе в рыжую шевелюру два пера из хвоста сарыча, следил за кофейником, подвешенным над огнем. Когда я подошел , он погрозил мне палкой и сказал : – Презренный бледнолицый! Как смеешь ты подходить к костру Вождя Краснокожих, Грозы Долин? |
Гляжу : Билл заклеивает пластырем ссадины на своей физиономии. За скалой у входа в пещеру пылает костер, а наш парень с двумя ястребиными перьями в рыжих патлах не сводит глаз с закипающего кофейника. Подхожу поближе, а он целится в меня палкой и говорит : – Проклятый бледнолицый, как ты посмел явиться в лагерь вождя краснокожих по имени Гроза Прерий? |
Это описательный фрагмент, предполагающий непосредственное наблюдение повествователем (и читателем). В переводах Дарузес и Климова иллюзия присутствия дополнительно усиливается благодаря вводу глагола смотрю / гляжу ; у Евменова добавляется вариант подхожу .
В целом выбор стратегии перевода глаголов, вводящих речь в диалогических фрагментах, можно представить так (число – количество фрагментов, в которых переводчик использует формы настоящего времени (из 12 в оригинальном тексте)):
З. Львовский – 0,
Н. Давыдова, А. Горлин – 2,
В. Азов, О. Майдель – 3,
М. Лорие – 5,
Н. Дарузес, А. Климов, В. Евменов – 10.
При этом интересно отметить, что в тексте встретилось два случая, когда в оригинале использованы формы настоящего времени для глаголов речи, а во всех переводах – напротив, данные фрагменты переведены с использованием прошедшего времени.
Таблица 3
|
O. Henry |
А. Горлин |
О. Майдель |
|
“Hey, little boy!” says Bill, “would you like to have a bag of candy and a nice ride?” The boy catches Bill neatly in the eye with a piece of brick. “That will cost the old man an extra five hundred dollars,” says Bill, climbing over the wheel. |
– Эй, малыш, – сказал Билль, – хочешь прокатиться как следует и получить еще вдобавок мешочек леденцов? Мальчишка чуть не угодил Биллю прямо в глаз обломком кирпича. – Это будет стоить старику еще пятьсот долларов, сверх таксы, – проворчал Билль и вышел из кабриолета. |
– Эй, малыш! – говорит Билл. Хочешь получить мешочек леденцов да ещё и прокатиться? Мальчишка чуть было не угодил Биллу прямо в глаз обломком кирпича. – Это будет стоить старику ещё пятьсот долларов, – сказал Билл, вылезая из брички. |
В таблице 3 форма настоящего времени встречается только для первого глагола и только в переводе Майдель – но следующая реплика оформлена уже глаголом речи в форме прошедшего времени.
Таблица 4
|
O. Henry |
М. Лорие |
Н. Дарузес |
|
There was a sylvan attitude of somnolent sleepiness pervading that section of the external outward surface of Alabama that lay exposed to my view. “Perhaps,” says I to myself, “it has not yet been discovered that the wolves have borne away the tender lambkin from the fold. Heaven help the wolves!” says I, and I went down the mountain to breakfast. |
Кусочек поверхности Алабамы, открывавшийся моим глазам, дышал дремотным сельским покоем. «А может быть, – подумал я, – там еще не хватились. Еще не знают, что злые волки утащили из-под мирного крова невинного ягненка». – Помоги, Боже, волкам! – сказал я и спустился к пещере завтракать. |
Сонным спокойствием лесов веяло от той части Алабамы, которая простиралась перед моими глазами. – Может быть, – сказал я самому себе, – еще не обнаружено, что волки унесли ягненочка из загона. Помоги, Боже, волкам! – И я спустился с горы завтракать. |
В таблице 4 представлен пример, касающийся обращения говорящего к самому себе, и это случай, когда абсолютно во всех переводах представлены только формы прошедшего времени. Это может быть связано с тем, что здесь изображается автокоммуникация (например, в переводе М. Лорие именно поэтому появляется подумал вместо оригинального сказал ).
Следующий блок примеров связан со случаями, когда настоящее нарративное используется для наглядного отображения ситуации в прошлом: картина как бы разворачивается перед читателем. Особенно это важно именно для описаний действий мальчика и реакции на них Билла – поскольку в большин- стве случаев поступки ребенка внезапные и непрогнозируемые, они каждый раз застают незадачливых похитителей врасплох.
Таблица 5
|
O. Henry |
А. Горлин |
А. Климов |
|
When I got to the cave I found Bill backed up against the side of it, breathing hard, and the boy threatening to smash him with a rock half as big as a cocoanut. “He put a red-hot boiled potato down my back,” explained Bill, “and then mashed it with his foot; and I boxed his ears. Have you got a gun about you, Sam?” |
Когда я подошел ближе, я увидел Билля, прижавшегося спиною к каменной стене. Он тяжело дышал . Мальчишка стоял перед ним и угрожал запустить ему в голову камень, величиною с половину кокосового ореха. – Он опустил мне за воротник горячую картофелину, – объяснил Билль, – и раздавил ее на мне ногой. Я дал ему в ухо. Есть у тебя револьвер, Сэм? |
Подхожу к пещере и вижу : Билл стоит , прижавшись к скале, и едва дышит , а мальчишка собирается врезать ему камнем чуть не с кокосовый орех величиной. – Он сунул мне за шиворот печеную, с пылу, картошку, – объясняет Билл, – и раздавил ее в придачу, а я ему надрал уши. Ружье при тебе, Сэм? |
В таблице 5 настоящее время увеличивает риск и трагичность повествования, в русских переводах читатель должен осознать всю тяжесть положения взрослого человека, который не может справиться с опасными действиями ребенка.
Таблица 6
|
O. Henry |
В. Азов |
А. Климов |
|
“Bill,” says I, “there isn’t any heart disease in your family, is there?” “No,” says Bill, “nothing chronic except malaria and accidents. Why?” “Then you might turn around,” says I, “and have a look behind you.” Bill turns and sees the boy, and lose s his complexion and sits down plump on the ground and begins to pluck aimlessly at grass and little sticks. |
– Билл, – спросил я, – в твоей семье никто не умер от разрыва сердца? – Нет, – сказал Билл. – Ничего у нас в семье такого не было, кроме малярии и несчастных случаев. – Тогда ты можешь обернуться и посмотреть, что у тебя за спиной. Билл обернулся , увидел мальчишку, побледнел и, тяжело опустившись на землю, стал зачем-то рвать траву и собирать щепочки. |
– Билл, – говорю , – у тебя в семье никто сердцем не хворал? – Нет, – отвечает , – ничего такого, кроме малярии да несчастных случаев. А с чего это ты? – Ну, тогда обернись, – говорю , – и глянь, что там у тебя за спиной. Билл оборачивается , видит нашего парня и становится бледный, как снятое молоко. После чего плюхается на землю под скалой и начинает тупо рвать траву. |
В таблице 6 описание действий находится после диалога, но сохраняет авторскую стратегию перевода: начиная с перевода М. Лорие (1945) используются только формы настоящего времени для повышения иллюзии актуального присутствия читателя при данной сцене.
В таблице 7 отражено наблюдение повествователя за ситуацией. Для него это важный момент, вероятно, поэтому А. Климов выбирает такую форму.
Таблица 7
|
O. Henry |
З. Львовский |
А. Климов |
|
Exactly on time, a half-grown boy rides up the road on a bicycle , locates the pasteboard box at the foot of the fencepost, slips a folded piece of paper into it and pedals away again back toward Summit. |
Аккуратно в назначенное время на дороге, на велосипеде, показался подросток, который подъехал к заборному столбу, нашел картонную коробку, опустил в нее сложенную бумагу и запедализировал в обратную сторону. |
Ровно в назначенное время подъезжает на велосипеде какой-то подросток, находит картонную коробку под столбом забора, опускает в нее записочку и катит обратно в город. |
Важно отметить, что данный фрагмент только в 3 переводах передан с использованием прошедшего нарративного времени – это переводы З. Львовского, Н. Давыдовой и В. Азова (три наиболее ранних версии).
Наконец, последним рассмотрим пример, который можно условно назвать «настоящим нарративным в квадрате»: повествователь рассказывает о том, как персонаж рассказывает о прошедших событиях – и это происходит с использованием форм настоящего нарративного времени.
Таблица 8
|
O. Henry |
З. Львовский |
А. Климов |
|
“ I takes him by the neck of his clothes and drags him down the mountain. On the way he kicks my legs black-and-blue from the knees down; and I’ve got two or three bites on my thumb and hand cauterized . But he’s gone. ” |
Я схватил подлеца за шиворот и стащил его с горы вниз. Всю дорогу он лягался . У меня обе ноги черно-синие до самых колен. Раза два или три он укусил меня за руку. Но, слава тебе господи, он ушел , ушел домой. |
Хватаю паршивца за ворот и волоку с горы вниз. По дороге он меня лягает , все ноги у меня теперь в синяках , на руке парочка укусов, а большой палец кровит . Но зато его больше нет . |
В целом включение настоящего исторического времени является способом дополнительной актуализации смыслов для непосредственного вовлечения адресата в ситуацию. Повествователь, используя формы настоящего времени при рассказе о прошлом, переносит и себя, и своих слушателей в тот момент времени, когда события совершались. Это позволяет придать ситуации большую пластичность, осязаемость, а также сделать ее более достоверной, что немаловажно для типа повествователя в данной новелле (аферист, подсознательная цель которого – убедить остальных в своей невиновности).
По результатам проведенного исследования можно заключить, что глагольные формы, используемые для выделения ряда сюжетных сцен и объединения хронотопа повествователя и читателя, различаются по переводам весьма значительно. Было довольно неожиданно обнаружить, что есть перевод, абсолютно игнорирующий формы настоящего исторического времени. Расположить переводы по количеству включений форм настоящего исторического времени можно следующим образом (от меньшего к большему):
-
1) З. Львовский – ни одного случая использования форм настоящего нарративного;
-
2) настоящее нарративное встречается спорадически, преобладают формы прошедшего нарративного: Н. Давыдова, В. Азов – А. Горлин, О. Май-дель – М. Лорие,
-
3) преобладают формы настоящего нарративного, в том числе в тех случаях, где в оригинале прошедшее время: Н. Дарузес, А. Климов – Е. Евменов.
Можно заметить, что количество форм настоящего времени повышается ближе к современности; «выбивается» из этого ряда только вариант О. Май-дель – но в книге указано, что это переиздание перевода А. Горлина, вероятно, редактор работал с лексикой и стилистикой текста, но практически не менял грамматические формы, связанные с выдвижением тех или иных действий на первый план. Можно предположить, что современные переводчики стараются увеличить степень «кинематографичности» рассказа, повысить иллюзию непосредственного наблюдения за сюжетом и, таким образом, сделать текст интереснее для читателя.