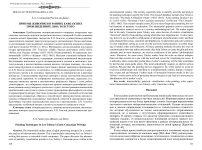Приемы живописи в ранних кавказских произведениях Льва Толстого
Автор: Соловьева Евгения Анатольевна
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Русская литература
Статья в выпуске: 4 (63), 2022 года.
Бесплатный доступ
Проблематика интермедиальности открывает интересные перспективы системного анализа интерсемиотических отношений. Особое внимание в данном аспекте привлекает творчество Л.Н. Толстого, художественные произведения которого содержат заметную визуальную составляющую. Целью настоящего исследования стало выявление, описание и анализ приемов живописи в кавказской прозе писателя 50-60-х гг. XIX в. Материалом для исследования послужили четыре произведения Л.Н. Толстого: «Набег. Рассказ волонтера» (1852-1853); «Рубка леса. Рассказ юнкера» (1853-1855); «Разжалованный. Из кавказских воспоминаний» (1856) и «Казаки» (1852-1863). Методом сплошной выборки было отобрано 262 микроконтекста, содержащих элементы живописной визуализации. Исследование выполнено в русле интермедиального подхода в сочетании с контекстуальным и количественным видами анализа. Автором показано, что основными заимствуемыми из живописи средствами в ранних кавказских произведениях Л.Н. Толстого являются: 1) цветопись, т.е. вербализация хроматических и ахроматических цветов и их основных характеристик; 2) ахроматические и цветовые контрасты; 3) использование цветовых повторов с целью достижения визуальной и смысловой гармонии; 4) отображение взаимосвязи цветовых переходов, (т.е. передача нюансных цветов и светоцветовых рефлексов). Наряду с этим, работа демонстрирует, что избираемые писателем приемы живописи разнообразят пути коммуникации между автором и читателем, служат для выстраивания композиции произведений и выступают, в ряде случаев, проводниками философских взглядов и мировосприятия автора. Они также позволяют избежать излишней эстетической идеализации создаваемых образов и способствуют преимущественно реалистическому отображению описываемых персонажей, событий и окружающего мира. Дальнейшее изучение взаимодействия искусств в произведениях Л.Н. Толстого представляет особенный интерес в аспекте изучения его авторского стиля.
Интермедиальность, живописная визуализация, цветопись, цветовые повторы, средства гармонизации, л.н. толстой, ранние кавказские произведения
Короткий адрес: https://sciup.org/149141260
IDR: 149141260 | DOI: 10.54770/20729316-2022-4-120
Текст научной статьи Приемы живописи в ранних кавказских произведениях Льва Толстого
В последние десятилетия проблематика взаимодействия искусств остается предметом оживленных научных дискуссий. Формирующаяся теория интермедиальности все более привлекает ученых благодаря перспективам системного анализа интерсемиотических отношений. Однако исследования в данном направлении сталкиваются со значительными сложностями, которые обусловлены не только многоаспектностью затрагиваемых вопросов, но и связаны с отсутствием сформированного понятийного аппарата. В первую очередь это касается трактовки основополагающего термина «медиа», от концептуального понимания которого зависит возможный анализ того или иного феномена в рамках интермедиальных отношений, которые, несомненно, диалогичны по своей природе [Rajewsky 2005, 48-49].
В настоящее время наиболее распространенное понимание медиа как «продолжения» человека во внешнем мире [McLuhan 1964], реализующегося во всем многообразии возможных эстетических, технических и иных воплощений, смещается к более нюансированной идее коммуникативных инструментов, обладающих взаимосвязанными свойствами [Ellestrom 2021, 4]. В этом аспекте все медиа являются неоднородными и смешанными [Mitchell 1994, 5], а их взаимодействие (интермедиальность) понимается как своеобразный мост, перебрасываемый между различиями, в основании которого лежат сходства медиа [Ellestrom 2021, 5]. Данной интерпретации феномена интермедиальности мы и придерживаемся в настоящей работе.
Действительно, являясь по существу цветовым и фактурным текстом, живописное произведение содержит информацию, заключенную в невербальных визуальных сигналах - «visual stimuli» [Есо 1976, 193], которые представляют собой коммуникативный код, основанный на приемах живописи. Соответственно, любой перевод данного кода в систему вербальных символов, служащий достижению коммуникативных целей, выступает проявлением интермедиальности. С точки зрения типологии, подобное взаимодействие может происходить на уровне как передачи художественной техники и формообразующих принципов, так и целостных образов и сюжетов [Hansen-Love 1983].
Позволяя выявить конкретные точки соприкосновения, обеспечивающие соединение «вербального» и «визуального» в эстетически и коммуникативно значимое целое, интермедиальный подход открывает возможности для более предметного исследования особенностей авторской методологии использования кодов, присущих живописи, в литературных произведениях. В этой связи он может дополнять традиционные пути изучения проблем цветоведения в философско-метафизическом [Бычков 1975; Трубецкой 1965; Флоренский 2003] и культурно-историческом ракурсах [Мурьянов 1978], а также в русле поэтики художественного текста [Bakhtin 1984; Галанов 1974].
Актуальность и практическая база исследования
Особенное внимание в аспекте интермедиальности привлекает творчество Л.Н. Толстого. Писатель, хотя и владел навыками рисунка на любительском уровне, но был знаком с живописью и отличался «общей начитанностью в эстетической литературе» [Фабрикант 1929, 312]. Его художественные произведения имеют визуальную составляющую, которую отмечают многие исследователи [см., наир.: Хайнади 2010, 360; Luttrell 2018; Milkova 2016]. В частности, экфрасисы картин и цветообозначения выступают немаловажным компонентом толстовской прозы, они присутствуют в художественных описаниях, а также служат кодами для передачи авторского мировидения [Масолова 2019; Труфанова 2019; Mandelker 1991; Gatrall 2014].
Пребывание на Кавказе оставило заметный след в судьбе писателя: туда он внезапно уехал в попытке отыскать свой жизненный путь и именно там началась его литературная деятельность. Однако взаимодействие живописного и нарративного элементов в кавказской прозе Л.Н. Толстого
50-60-х гг. XIX в., которая во многом автобиографична, остается недостаточно изученным. Тем не менее исследование своеобразия использования приемов живописи в ранней прозе писателя представляется достаточно актуальным, поскольку оно уточняет сведения о художественном стиле Л.Н. Толстого на различных этапах развития его творческой индивидуальности. Целью настоящей работы стало выявление, описание и анализ приемов живописной визуализации в ранних кавказских произведениях писателя.
Материалом для исследования послужили четыре прозаических произведения: «Набег. Рассказ волонтера» (1852-1853); «Рубка леса. Рассказ юнкера» (1853-1855); «Из кавказских воспоминаний. Разжалованный» (1856) и «Казаки. Кавказская повесть» (1852-1863) [Толстой 1978-1985, II III]. Контексты, содержащие элементы живописной визуализации отобраны методом сплошной выборки, общий объем которой составил 262 микроконтекста. Исследование выполнено в рамках интермедиального подхода в сочетании с контекстуальным и количественным видами анализа.
Живописная визуализация в ранних кавказских произведениях Л.Н. Толстого
Подобно тому как создание произведений живописи невозможно без помощи красок (хроматических и ахроматических цветовых пигментов), живописная визуализация в литературных произведениях неразрывно связана с феноменом цветописи, под которым по отношению к вербальному тексту обычно подразумевается эксплицитная семантическая актуализация цвета и его основных характеристик (цветового тона, насыщенности, яркости), реализующаяся благодаря использованию колоративной лексики.
Наблюдения свидетельствуют, что стремление понять и объяснить мир посредством рецепции и передачи его цветовых кодов свойственно Л.Н. Толстому в ранний период его творчества. В частности, лексемы с корневыми морфемами -бел-, -черн- и -краем- обладают наибольшей регулярностью употребления, тогда как цветообозначения с формантами, -свет-, -теми-, -зелен-, -роз- и др. появляются менее часто. Использование последних двух носит в части текстов спорадический характер. В целом, большинство привлекаемых Л.Н. Толстым цвето- и светообозначений реализуется при помощи лексем: белый, черный, красный, темный, свет (как физическое явление), светлый. Помимо этого, в текстах присутствуют такие лексемы, как зеленый, розовый, голубой, синий, желтый, серый, лиловый, золотой, серебряный, яркоцветный и др. В отдельных случаях имеет место образование сложных слов, передающих различные оттенки: темно-серый, сине-беловатый, чисто-белый, светло-желтый, серо-лиловый, темно-сизый и др. Распределение относительной частотности (на 1000 слов текста) основных колоративных единиц, присутствующих

во всех анализируемых произведениях, имеет нижеследующий характер (значения округлены до десятой):
«Казаки»: -бел-(1,1); -черн- (1,0); -краем- (1,1); -зелен- (0,4); -роз- (0,2); -теми- (0,8); -свет- (0,7);
«Набег»: -бел- (3,1); -черн- (2,1); -красн- (0,7); -зелен- (0,8); -роз- (0,4);
-теми- (0,8); -свет- (1,7);
«Разжалованный»: -бел- (1,1); -черн- (1,2); -красн- (1,2); -зелен- (0,2); -роз- (0,1); -теми- (0,7); -свет- (0,4);
«Рубка леса»: -бел- (1,0); -черн- (0,9); -красн- (1,0); -зелен- (0,2); -роз- (0,2); -теми- (0,8); -свет- (0,9).
Другие цветообозначения хотя и отличаются разнообразием, но используются автором более избирательно.
Из представленного распределения видно, что в исследуемых текстах ахроматические (черный и белый), а также красный цвета являются доминирующими. В этой связи, учитывая данные, полученные другими исследователями [Масолова 2017; Масолова 2019; Danaher 1995; Mandelker 1993, 116-120; Luttrell 2018], можно заключить, что актуализация перечисленных цветов, обладающих многогранными семиотическими возможностями, является одним из художественных приемов, который прослеживается в различные периоды творческой жизни писателя. Отметим также, что, с точки зрения частотности, текст «Набега» оказывается наиболее насыщенным колоративной лексикой.
Что же касается референциальной фокализации цветообозначений, то более 60% всех выявленных нами колоративных единиц соотносятся с человеком или связанными с ним реалиями. Писатель использует цвет для создания портретов и передачи эмоций героев произведений. Однако одни и те же цвета могут выступать проводниками различных сопутствующих смыслов. Так, например, во фразе «Дядя Брошка поклонился образам, расправил бороду и, подойдя к Оленину, подал ему свою черную толстую руку» («Казаки») [Толстой 1978-1985, III, 194], цветовая визуализация сообщает читателю дополнительную информацию о персонаже, руки которого почернели от солнца, пороха и долгих лет походной жизни. В другой ситуации, сочетая на уровне синтагмы черный цвет глаз с диминутивом хорошенький, автор уподобляет совсем еще молодого прапорщика Аланина клишированному романтическому образу красивой женщины, чем подчеркивает уязвимость персонажа и привносит элемент грустной иронии над экзальтированными стремлениями неопытной юности: «Хорошенький прапорщик был в восторге; прекрасные черные глаза его блестели отвагой, рот слегка улыбался <.. .>» («Набег») [Толстой 1978-1985, II, 29].
Наряду с этим наблюдения свидетельствуют, что вербальная цветопись Л.Н. Толстого заметно подчиняется принципам и приемам, использующимся в живописи для достижения композиционной и колористической гармонии. Так, например, для создания рельефного и насыщенного смыслом вербального изображения писатель прибегает к ахроматическим (световым) и цветовым контрастам. Согласно нашей выборке, изолированное или в комбинации с другими приемами использование контраста отмечается примерно в трети рассмотренных контекстов. Оно позволяет автору не только достичь эффекта четкой и яркой визуализации, но и имеет, в ряде случаев, заметную коммуникативную составляющую, служащую для передачи весьма разнообразных смысловых импликаций. В частности, сочетания контрастов помогают писателю выразить еще не высказанные чувства и эмоции персонажей. Так, во фразе «И в темноте глаза ее весело и ласково блеснули на молодого человека» («Казаки») [Толстой 1978-1985, III, 287] резкий световой акцент, сделанный на глазах Марьяны, передает возникающее чувство взаимной симпатии героев. В следующем примере: «На площади, против отворенной и освещенной двери лавки, чернеется и белеется толпа казаков и девок и слышатся громкие песни, смех и говор. <...> По темную сторону двери стоят Белецкий и Оленин в черкесках и папахах <...>» («Казаки») [Толстой 1978-1985, III, 285], - использование черного и белого цветов, реализуемое при помощи глаголов состояния чернеться и белеться, разграничивает в толпе казаков лица мужского и женского пола, а контрастное освещение подчеркивает принадлежность дворян Белецкого и Оленина к непонятному, те. «темному» для обитателей станицы социокультурному миру. Фамилия князя, имеющая в своем составе корневую морфему -бел-, еще более усиливает это контрастное противопоставление.
Мастер многогранной образности, Л.Н. Толстой иногда прибегает к световым и цветовым контрастам для выражения философских взглядов, составляющих систему его мировоззрения. Обратимся к одному достаточно наглядному примеру: «Кровяные красные корыта виднелись под навесами, <...>. Плоские крыши избушек были сплошь уложены черными и янтарными кистями, которые вяли на солнце. <...> В тенистых зеленых садах, среди моря виноградника, со всех сторон слышались смех, песни, веселые женские голоса и мелькали яркие цветные одежды женщин» («Казаки») [Толстой 1978-1985, III, 260]. По мнению исследователей, изучающих творчество писателя, присутствующая в приведенном фрагменте сцена сбора винограда поэтизирует сельский труд и содержит имплика-тивные библейские референции [Нагина 2011, 112-114]. С этим нельзя не согласиться, однако представляется целесообразным добавить, что передача упомянутых смыслов активно реализуется, в том числе, при помощи использования цвета и контрастов. Благодаря яркой цветовой палитре, вербализируемой путем обращения к колоративной лексике, Л.Н. Толстой создает контрастную атмосферу тепла и всеобщей радости. В свою очередь, текстоформа кровяные усиливает цветовую насыщенность и имплицитно отсылает к идее причастия. Наряду с этим контрастное соположение янтарных и черных кистей винограда говорит о постоянном противоборстве солнца и тьмы, о двойственности всего сущего на земле, ведь виноград, как отмечено в процитированной выше работе, - это и символ света, и плод искушения. В этой связи небезынтересно добавить, что западная христианская традиция обычно отождествляет в символическом
аспекте золотистые и пурпурные гроздья винограда, а используемое для богослужений вино может быть как красным, так и белым (золотистым) [Мурьянов 1978, 100-101].
Наблюдения свидетельствуют, что обращение к живописным приемам связано не только с текущей, «сиюминутной» составляющей произведений. Так, например, создаваемый писателем контрастный фон способен эксплицировать и даже иногда предвосхищать происходящие события: «В три часа утра, когда еще было совершенно темно, с меня сдернули обогретый тулуп, и багровый огонь свечки неприятно поразил мои заспанные глаза. <.. .> Было темно, туманно и холодно. Ночные костры, светившиеся там и сям по лагерю, освещая фигуры сонных солдат, <...> увеличивали темноту своим неярким багровым светом» («Рубка леса») [Толстой 1978-1985, II, 51]. Чередование светового и цветового контрастов, образующее глубокие тени в предрассветной темноте, передает атмосферу неспокойной сонливости, царящую в лагере перед выходом отряда на прорубку леса. В то же время багровый цвет пламени солдатских костров и свечи, зажженной в палатке офицера, свидетельствует об опасности предстоящего военного мероприятия, которой подвергаются все его участники вне зависимости от того, какое звание они имеют.
В целом, контрасты и прием цветового повтора, свойственные «языку живописи», разнообразят коммуникацию автора и читателя, помогая последнему не только осознать, но и почувствовать авторские интенции. Подобно художнику, Л.Н. Толстой использует повторение цвета как средство гармонизации, благодаря которому достигается цветовое и смысловое единство изображения. В данной связи отметим, что, хотя проблема лексических повторов в языке писателя до сих пор не получила своего исчерпывающего объяснения и трактуется исследователями различно [см., например: Виноградов 1939; Мехтиев 2019; Труфанова 2019], мы полагаем, что в данном случае возможно говорить об использовании живописного средства, а не о небрежности и/или немотивированности авторского стиля. Указанный прием присутствует примерно в десятой части всех проанализированных нами микроконтекстов. В частности, он обнаруживается в следующих фрагментах: 1) «На нем были старый, истертый сюртук без эполет, лезгинские широкие штаны, белая папашка с опустившимся пожелтевшим курпеем <...>. Беленький маштачок, на котором он ехал, шел понуря голову <...>»; 2) «При матовом освещении свечи сквозь бумагу и среди окружающей темноты виднелись только тюленевая кожа погребца, ужин, стоявший на ней, лицо, полушубок Гуськова и его маленькие красные ручки, которыми он принялся выкладывать вареники из кастрюльки. Кругом все было черно, и, только вглядевшись, можно было различить черную батарею, такую же черную фигуру часового <.. .> по сторонам огни костров и наверху красноватые звезды»; 3) «Белый платок девки белелся в темной улице. Месяц, золотясь, спускался к степи. Серебристый туман стоял над станицей» («Казаки») [Толстой 1978-1985, III, 289].
В первом примере повторение простого, без оттенков, белого цвета визуально объединяет наездника и его неброского вида лошадь, чем усиливается выразительная синкретичность образа капитана Хлопова - немногословного боевого офицера, который сумел с честью пройти через многие сражения, но был совершенно не склонен к позерству и эпатажу В свою очередь, присутствие на папахе героя пожелтевшего от времени курпея наглядно представляет равнодушие персонажа к показному блеску.
Во втором фрагменте светотеневые и цветовые акценты позволяют автору получить крупноплановое и динамичное изображение главных смысловых деталей описываемой ситуации - погребца с ужином и рук персонажа. Одновременно с этим прорисовка фона, реализуемая при помощи троекратного повторения черного цвета в сочетании с контрастным присутствием оттенков красного, актуализирующихся за счет текстоформы красноватые и словосочетания огни костров, создает эффект объемной визуализации происходящего. Примечательно, что окончательная живописная завершенность достигается путем расстановки цветовых рефлексов: наделяя звезды красноватым оттенком, похожим на отблеск горящих на земле костров, писатель объединяет небо и землю, возможно, стремясь подчеркнуть их теснейшую, постоянную и неразрывную связь. Последний факт указывает на художественное мастерство и тонкость восприятия, уже присущие тогда еще совсем молодому автору: придавая оттенкам цвета отчасти философское значение, Л.Н. Толстой виртуозно использует мелкие детали для коннотативного выражения своих духовных исканий и передачи свойственного ему мироощущения. Вместе с тем неоднократное повторение цвета заставляет вспомнить лермонтовское описание старинной башни из стихотворения «Тамара», что отчасти подтверждает мнение литературоведов о влиянии произведений М.Ю. Лермонтова на творчество Л.Н. Толстого, высказанное еще в начале XX в. [Семенов 1914].
В третьем примере семантически избыточное повторение белого цвета в текстоформах белый и белелся рельефно выделяет фигуру девушки на окружающем контрастном фоне. Наряду с этим отблеск лунного света в частичках воды (тумане), актуализируемый при помощи текстоформы серебристый, не только способствует визуальной гармонизации описания, но и вновь коннотативно передает идею онтологического единства реального и идеального миров.
По воспоминаниям современников, лично знавших Л.Н. Толстого, писатель любил наблюдать и живо чувствовал природу [см.: Гусев 1973, 363], в которой он находил источник творческого вдохновения. Кроме того, взаимоотношения человека и природы являлись краеугольным элементом исповедуемой писателем концепции бытия. Одним из приемов живописи, который демонстрирует внимательное отношение Л.Н. Толстого к окружающему миру, служит отображение взаимосвязи цветовых переходов, включающее в себя передачу нюансных цветов и светоцветовых рефлексов. Последние подразумевают как уже упомянутое выше взаимное отражение цветов, так и присутствие оттенка общего освещения, которое играет в живописи объединяющую роль. Хотя Л.Н. Толстой сравнительно
редко прибегает к этим средствам живописной выразительности, они позволяют писателю добиться весьма реалистичных пейзажных описаний. Например: «Светлый круг солнца, просвечивающий сквозь молочно-белый туман, уже поднялся довольно высоко; серо-лиловый горизонт постепенно расширялся <.. .> но также резко ограничивался обманчивою белою стеною тумана. Впереди нас, за срубленным лесом, открылась <.. .> поляна. По поляне со всех сторон расстилался где черный, где молочно-белый, где лиловый дым костров, и странными фигурами носились белые слои тумана» («Рубка леса») [Толстой 1978-1985, II, 62-63]. Детализация оттенков и особенно настойчивое повторение белого цвета служат не только для визуально контрастного и гармоничного отражения действительности, они помогают актуализировать туман как отдельную, динамичную структуру, прочерчивающую грани между уже зримым и еще отчасти скрытым пространством, таящим в себе неизвестность и потенциальную опасность.
В целом можно сказать, что в некоторых случаях Л.Н. Толстой использует цвет как самостоятельный и даже самодостаточный инструмент визуализации смысла. Примечательно, что в чем-то схожее понимание автономной значимости цвета будет впоследствии высказано художниками русского авангарда. В этой связи целесообразно упомянуть работы некоторых литературоведов и теоретиков искусства, обнаруживающих в произведениях Л.Н. Толстого мотивы и идеи, которые, в той или иной степени, могут быть соотнесены со взглядами художников-супрематистов [Лукьянов 2008; Blank 1995; Parthe 1985]. Несомненно, данный аспект творческой индивидуальности писателя требует дальнейшего серьезного изучения.
Рассмотрим еще один пример: «Серые и беловатые камни, желто-зеленый мох, <...> обозначались с чрезвычайной ясностию и выпуклостию на прозрачном, золотистом свете восхода; зато другая сторона и лощина <...> были сыры, мрачны и представляли неуловимую смесь цветов: бледно-лилового, почти черного, темно-зеленого и белого. <...> на темной лазури горизонта, с поражающей ясностью виднелись ярко-белые, матовые массы снеговых гор с их <...> изящными тенями и очертаниями» («Набег») [Толстой 1978-1985, II, 11-12]. В процитированном фрагменте вербализация цветовых нюансов способствует непрерывности восприятия живописного образа, а динамические переходы теплых и холодных цветов оживляют пейзажное описание. Кроме того, визуальное противопоставление освещенных солнцем и, соответственно, хорошо просматривающихся склонов и вершин гор и остающихся во мраке ущелий имплицитно передает опасность похода. Одновременно с этим развернутая фоновая визуализация восхитительной красоты природного мира образует на уровне целостного текста смысловую оппозицию с описываемыми событиями. Можно предположить, что подобное композиционное построение выступает проводником философского мировоззрения автора, которое начало формироваться в рассматриваемый период.
Актуализацию цветовых нюансов можно наблюдать и в следующем фрагменте: «Солнце прошло половину пути и кидало сквозь раскаленный 128
воздух жаркие лучи на сухую землю. Темно-синее небо было совершенно чисто; только подошвы снеговых гор начинали одеваться бело-лиловыми облаками» («Набег») [Толстой 1978-1985, II, 16]. В данном случае Л.Н. Толстой с точностью художника придает белым облакам лиловый оттенок, который образуется в результате взаимодействия отсвета глубокого темного-синего неба и желто-красной части спектра прошедшего через атмосферу солнечного света.
Отметим также, что несмотря на то, что, по свидетельствам современников, писатель несколько скептически относился к пейзажу, отводя ему функцию фона картины [Фабрикант 1929, 319], пейзажные описания в толстовской прозе иногда играют не менее значимую роль, чем действующие лица произведения. В этой связи можно упомянуть завершающую XII часть рассказа «Набег», в которой насыщенный свето-теневыми и цветовыми контрастами пейзаж является важнейшим и неотъемлемым смысловым и композиционным элементом финала произведения.
Выводы
Выполненное исследование свидетельствует о том, что взаимодействие между литературой и живописью ощутимо присутствует в нарративе ранней кавказской прозы Л.Н. Толстого. Оно реализуется путем использования приемов и принципов живописи и служит для создания вербальных образов, обладающих эффектами визуальной передачи как эксплицитно выраженных, так и сопутствующих, коннотативных смыслов.
Основными привлекаемыми из живописи средствами художественной визуальности являются: 1) цветопись, т.е. непосредственная словесная актуализация хроматических и ахроматических цветов и их основных характеристик; 2) ахроматические и цветовые контрасты; 3) использование повторов цвета как средства с достижения визуальной и смысловой гармонии; 4) отображение взаимосвязи цветовых переходов, подразумевающее передачу нюансных цветов и светоцветовых рефлексов.
Наиболее часто писатель обращается к первым трем приемам, которые служат для визуализации как действующих лиц, так и фона произведений. Приемы отображения взаимосвязи цветовых переходов, перечисленные в последнем пункте, встречаются гораздо реже и обычно используются для создания пейзажных описаний. Употребляемая автором колоративная лексика чаще соотносится с человеком, чем с окружающим его внешним миром, что в целом согласуется с композиционной антропоцентрической направленностью толстовской прозы.
В целом избираемые Л.Н. Толстым живописные средства позволяют избежать чрезмерной эстетизации образов и способствуют преимущественно реалистическому отображению описываемых персонажей, событий и окружающего мира.
Наряду с этим, как и на полотнах мастеров живописи, цвета и контрасты служат не только для отображения сюжета произведения, они вы-

ступают выразителями философских взглядов и мировосприятия автора и играют существенную роль в композиционном строении ранних кавказских произведений Л.Н. Толстого.
В заключение целесообразно добавить, что взаимодействие искусств является важной, но еще недостаточно изученной составляющей произведений писателя, которая представляет особенный интерес в аспекте объективации его авторского стиля.