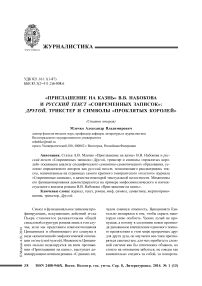«Приглашение на казнь» В.В. Набокова и русский текст «Современных записок»: другой, трикстер и символы «проклятых королей» (статья вторая)
Бесплатный доступ
Статья А.В. Млечко «Приглашение на казнь» В.В. Набокова и русский текст «Современных записок»: Другой, трикстер и символы «проклятых королей» посвящена анализу специфического семантико-семиотического образования, условно определяемого автором как русский текст, позволяющего рассматривать тексты, напечатанные на страницах самого крупного эмигрантского «толстого» журнала «Современные записки», в качестве некоторой текстуальной целостности. Механизмы его функционирования демонстрируются на примере мифосимволического и контекстуального анализа романа В.В. Набокова «Приглашение на казнь».
Журнал, текст, роман, миф, символ, семантика, жертвоприношение, трикстер, другой
Короткий адрес: https://sciup.org/14975275
IDR: 14975275 | УДК: 821.161.1(1-87)
Текст научной статьи «Приглашение на казнь» В.В. Набокова и русский текст «Современных записок»: другой, трикстер и символы «проклятых королей» (статья вторая)
Смысл и функциональное значение профанирующих, искушающих действий м-сье Пьера становятся релевантными общей смысловой структуре романа лишь в том случае, если мы представим взаимоотношения Цинцинната и обвиняющего его социума в виде «классической» мифологической оппозиции он/мы (свой/чужой). Инаковость Цинцин-ната сильно педалируется на всем протяжении «Приглашении на казнь», выступает доминирующим мотивом романа. «С ранних лет, чудом смекнув опасность, Цинцинната бдительно изощрялся в том, чтобы скрыть некоторую свою особость. Чужих лучей не пропуская, а потому в состоянии покоя производя диковинное впечатление одинокого темного препятствия в этом мире прозрачных друг для друга душ, он научился все-таки притворяться сквозистым, для чего прибегал к сложной системе как бы оптических обманов, но стоило на мгновение забыться, не совсем так внимательно следить за собой, за поворота- ми хитро освещенных плоскостей души, как сразу поднималась тревога. В разгаре общих игр сверстники вдруг от него отпадали, словно почуя, что ясность его взгляда да голубизна висков – лукавый отвод и что в действительности Цинциннат непроницаем. <…> В сущности темный для них, как будто был вырезан из кубической сажени ночи, непроницаемый Цинциннат поворачивался туда-сюда, ловя лучи, с панической поспешностью стараясь так стать, чтобы казаться светопроводным» (Современные записки. 1935. № 58. С. 14–15, 16). В своем дневнике Цинциннат, обращаясь к окружающим его «куклам», признается: «Я не простой… я тот, который жив среди вас… Не только мои глаза другие, и слух, и вкус, – не только обоняние, как у оленя, а осязание, как у нетопыря, – но главное: дар сочетать все это в одной точке… » (Современные записки. 1935. № 58. С. 37).
Цинциннат чужой («чуднуй») для «кукол», населяющих окружающий его фантастический мир, и этот мир выталкивает его, общество неизбежно исторгает чуждый и враждебный ему элемент, исторгает иного , представляющего потенциальную для социума («общины») опасность, являющего собой некую заразу (непрозрачность), долженствующую быть локализованной и изгнанной за пределы этого мира – в смерть. Главный герой выступает в роли парии, изгоя, жертвы , приносимой ради дальнейшего благополучия и целостности не желающего разлагаться изнутри коллективного организма. Как в случае с «Историей любовной» И. Шмелева и произведениями Д. Мережковского на смысловом пространстве русского текста «Современных записок», мы здесь напрямую сталкиваемся с семиотикой жертвоприношения , анализу «очистительной» общественной функции которого посвящены исследования Р. Жирара. Сейчас мы лишь остановимся на блестяще разобранном Жираром аспекте механизма выбора жертвы – обязательного объекта коллективного насилия.
Приносимое в жертву существо, по Жирару, должно отвечать нескольким взаимосвязанным условиям, главным из которых является маргинальность жертвы, ее пограничный статус. Объект коллективного насилия должен одновременно принадлежать и не при- надлежать «общине», быть и не быть частью социального «тела», например, существо, не полностью «вросшее» в это тело, смерть которого не повлечет за собой месть, существо беззащитное – животное, ребенок и т. д. «Принципиальное свойство удобожертвенных категорий, как мы знаем, – пишет Жирар, – их непринадлежность к общине. Жертва отпущения, напротив, составляет часть общины. <…> Даже тогда, когда будущая жертва берется из общины, сам факт, что ее выбрали, чтобы заместить жертву отпущения, делает ее существом отличным от всех окружающих, вырывает ее из нормальных взаимоотношений между людьми… » [7, с. 326– 327]. То есть принципиальное требование состоит в том, чтобы жертвенное существо было «иным», «внешним» по отношению к коллективу, «жертвенные категории поэтому часто состоят из существ, не принадлежащих и никогда не принадлежавших общине, что жертва отпущения с самого начала принадлежит священному. Община появляется как противоположность священному. Поэтому те, кто составляет часть общины, в принципе менее пригодны на роль жертвы отпущения. Этим объясняется, что ритуальные жертвы выбирают за пределами общины, среди существ, уже пропитанных священным, поскольку священное – их обычная среда, то есть среди животных, чужеземцев и т. д.» [7, с. 327].
Даже если потенциальная жертва берется изнутри коллектива, она все равно должна быть иной, инородным для него телом. «Ритуальные жертвы, – пишет Жирар, – потому выбираются вне общины или сам факт их выбора потому сообщает им известную по-сторонность, что жертва отпущения уже не кажется такой, какой была в действительности: она перестала быть таким же, как другие, членом общины. <…> она образует между общиной и священным («внешним» – А.М.) сразу и соединительную и разделительную черту. Чтобы исполнить роль этой необычайной жертвы, ритуальная жертва, в идеальном случае, должна бы принадлежать сразу и общине, и священному. Теперь мы понимаем, почему ритуальные жертвы почти всегда выбираются из категорий не откровенно внешних, а маргинальных – из числа рабов, детей, скота и пр. Выше мы видели, что эта маргиналь- ность позволяет жертвоприношению выполнять свою функцию. <…> Маргинальные категории, откуда часто вербуются жертвы, соответствуют этому требованию не идеально, но они составляют наилучшее к нему приближение. Их, размещенных между «внутри» и «снаружи», можно счесть принадлежащим сразу и тому и другому» [7, с. 328–329].
Другими словами, в случае выбора потенциальной жертвы внутри коллектива она «овнешняется» – она должна отличаться от остальных по какому-либо признаку, принадлежать сфере «иного», быть «внутренним эмигрантом», отверженным, чья смерть не повлечет за собой угрозы всему социуму, угрозы впасть во взаимное насилие и раздоры. И наоборот, если выбор падает на существо, взятое извне, пришедшее с иного (культурного) пространства, существо, признанное чужим , возникает необходимость сделать его своим – пусть инородной, но все же частью общественного «тела», «родным» элементом, чья аннигиляция, опять же, не приведет к реальным потерям и не позволит проказе дальнейшего (ответного) насилия погубить коллективное целое.
Удивительно, но выбор Цинцинната в качестве приносимой ради общего блага жертвы отвечает сразу двум этим условиям. С одной стороны, он принадлежит этому, пусть и бутафорскому социуму, является его частью. поэтому обвинение в «гносеологической гнусности» призвано исключить Цинцинната из этого целого, «овнешнить» его, изгнать за пределы «общины», поставить на нем печать изгнанника, навязать роль отвергаемого всеми фармака 1. С другой же, Цинциннат изначально чужд «праху нарисованной жизни», он непроницаем для окружающих, является пришельцем из совершенно иной сферы, неизвестно как попавшим в гротескный мир докучливых «пародий». В этом случае Цинцинната надо «освоить», сделать таким же, как все, включить в сферу общего «блага», навязать систему общих ценностей. Необходимо границу, отделяющую героя от окружающего мира, сделать (впрочем, как и его самого) более прозрачной, приручить Цинцинната, как неведомое, экзотическое, приготовленное к закланию животное 2, согреваемое «ласковым солнцем публичных забот» (Современные записки. 1935. №58. С. 15).
Этот процесс «обработки» жертвы Р. Жирар называет «жертвенной подготовкой»: «Все, что относится к этому типу вмешательства, мы называем жертвенной подготовкой . Здесь это выражение имеет более широкий, нежели обычно, смысл; наша «жертвенная подготовка» не всегда ограничена ритуальными действиями, непосредственно предшествующими закланию. Жертва должна принадлежать одновременно и внутреннему и внешнему. поскольку между внешним и внутренним нет идеально промежуточной категории, то всякое существо, выбранное для жертвоприношения, всегда до известной степени будет лишено того или иного из противоречивых качеств, которые от нее требуются; она всегда будет ущербной – либо с внешней, либо с внутренней точки зрения, никогда с обеих сразу. Задача всегда та же: сделать жертву полностью пригодной для жертвоприношения. Поэтому жертвенная подготовка в широком смысле предстает в двух весьма несхожих формах: первая пытается сделать жертву более внешней, то есть пропитать священным жертву, слишком включенную в общину; вторая напротив, пытается теснее включить в общину жертву, слишком постороннюю» [7, с. 329–330].
С учетом вышеозначенных коннотаций, перекодирующих смысловую структуру «Приглашения…», помещенного в специфические условия русского текста «Современных записок», сюжет романа представляет собой не что иное, как описание жертвенной подготовки Цинцинната перед прилюдной казнью, обеспечивающей торжество коллективного и общепринятого над частным и уникальным. Эта подготовка проходит в два этапа, соответствующих двум формам, выделяемых Жираром, – сначала Цинцинната «овнешняют», исключают из общего целого, вынося ему приговор; а потом, наоборот, (и собственно этому этапу подчинено все повествование) пытаются максимально приблизить его к себе, приручить, «завладеть его душой» (ср. М. Фуко, хотя это выражение отсылает и к иным, как мы увидим, более древним источникам), добиться его расположения, уважения и понимания, и в этом случае оксюморонность, заключенная в названии романа, обретает вид чудовищной в своем неизбежном стремлении к реализации гастрономической метафоры. Так, приводя в пример ритуалы такого «знакового» племени каннибалов, как тупинамба, Жирар пишет: «С пленником обращаются двойственным, противоречивым образом. В иные моменты его уважают, даже почитают, домогаются его сексуальных 3 милостей. В другие – его оскорбляют, относятся презрительно, подвергают насилию» [7, с. 333].
Трикстер-Пьер, (вместе с целой возглавляемой им компанией тюремщиков), будучи легатом противостоящего Цинциннату мира, призван выполнить свою основную функцию – сделать главного героя частью этого мира, добиться от него искренней признательности и благодарности за общественную и коллективную доброту. Пьер призван сделать из Другого «своего», при-своить Цинцинната, его миссия – войти в доверие к герою, заставить его добровольно отказаться от знания об истинном, сакральном мире 4. Для этого м-сье Пьеру и приходится на какое-то время стать (пародийным) двойником Цинцинната, «восполнить», разбудить его латентное материальное, «природное» начало. Эту функцию образа Пьера хорошо чувствовал эмигрантский критик П. Бицилли: «…м-сье Пьер – это то, что свойственно Цинциннатовой монаде в ее земном воплощении, что с нею вместе родилось на свет и что теперь возвращается в землю. Цинциннат и м-сье Пьер – два аспекта «человека вообще», everyman’a английской средневековой «площадной драмы», мистерии 5. «М-сье-пьеровское» начало есть в каждом человеке, покуда он живет, то есть покуда пребывает в том состоянии «дурной дремоты», смерти , которое мы считаем жизнью. Умереть для «Цинцинната» и значит – вытравить из себя «м-сье Пьера», то безличное, «общечеловеческое» начало, которое потому и безыменное , что оно воплощено в другом варианте «м-сье Пьера»» (Современные записки. 1939. № 68. С. 477).
Поэтому при первой их встрече палач представляется «собратом по несчастью» Цинцинната, таким же, как и он, узником. При этом описание внешности Пьера оказывается частью интертекстуальной игры Набоко- ва и интенционально направлено именно на создание образа трикстера – обманщика, шута и (дьявольского) соблазнителя: «На стуле, бочком к столу, неподвижно, как сахарный, сидел безбородый толстячок, лет тридцати, в старомодной, но чистой, свежевыглаженной арестантской пижаме, – весь полосатый, в полосатых носках, в новеньких сафьяновых туфлях, – являл девственную подошву, перекинув одну короткую ногу через другую и держась за голень пухлыми руками; на мизинцах вспыхивал прозрачный аквамарин, светло-русые волосы на удивительно круглой голове были разделены пробором посередине, длинные ресницы бросали тень на херувимскую щеку, между малиновых губ сквозила белизна чудных, ровных зубов» (Современные записки. 1935. № 58. С. 41–42). Уже это – первое – описание м-сье Пьера содержит целый ряд явных интертекстуальных отсылок к трем персонажам-трикстерам русской литературы: гоголевскому Чичикову и Свидригайлову с Порфирием Петровичем из «Преступления и наказания» (более подробно об этих интертекстах см.: [18, с. 176–178]; [11, с. 120–138]).
Педалируемая в этом и многих других пассажах полнота, пухлявость, округлость и гладкость Пьера (впрочем, этими качествами интертекстуальные сближения не ограничиваются) напрямую отсылают нас к Павлу Ивановичу Чичикову, искушающего помещиков продать ему мертвые души, а скупка мертвых душ, как известно, к числу повседневных человеческих дел не относится. Инфернальную природу Чичикова (а с учетом прямого интертекстуального сближения – и м-сье Пьера) подчеркивал и сам Набоков в своей большой работе «Николай Гоголь»: «Мертвые души, которые он скупает, это не просто перечень имен на листке бумаги. Это мертвые души, наполняющие воздух, в котором живет Гоголь, своим поскрипыванием и трепыханьем – нелепые animuli Манилова и Коробочки, дам из города NN, бесчисленных гномиков, выскакивающих из страниц этой книги. Да и сам Чичиков – всего лишь низко оплачиваемый агент дьявола, адский коммивояжер: «наш господин Чичиков», как могли бы называть в акционерном обществе «Сатана и К°» этого добродушного, упитанного, но внутренне дрожащего представителя. Пошлость, которую олицетво- ряет Чичиков – одно из главных отличительных свойств дьявола, в чье существование, надо добавить, Гоголь верил куда больше, чем в существование Бога. Трещина в доспехах Чичикова, эта ржавая дыра, откуда несет гнусной вонью (как из пробитой банки крабов, которую покалечил и забыл в чулане какой-нибудь ротозей), – непременная щель в забрале дьявола. Это исконный идиотизм всемирной пошлости» [14, с. 80]. Ненавидимая Набоковым пошлость, определяемая им двумя страницами выше как торжество мнимых истин и ценностей (человеку грозит «опасное приближение к краю пропасти под названием пошлость, которая зияет перед тобой во времена революций и войн» [14, с. 74]), самодовольным носителем и даже символом которых выступает м-сье Пьер, окрашивает собой весь «профанный» мир «Приглашения на казнь». Псевдолюбовь, псевдодобро, псевдосправедливость, мнимое счастье санкционированного обществом бытия, царящие в гротескном мире романа, привносят важные коннотации в тот образ современной России (и – шире – погружающейся в хаос всеобщей полицейщины Европы), который выстраивается на пространстве русского текста «Современных записок».
С символикой надзора и насилия связаны интертекстуальные сближения образов Пьера и следователя Порфирия Петровича из «Преступления и наказания» Достоевского. Обращает на себя внимание внешнее сходство героев, аналогия между которыми заявляет о себе даже на номенологическом уровне (полное имя палача – Петр Петрович). Приведем описание внешности Порфирия Петровича в сравнении с вышеприведенным пассажем из «Приглашения… »: «Порфирий Петрович был по-домашнему, в халате, в весьма чистом белье и в стоптанных туфлях. Это был человек лет тридцати пяти, росту пониже среднего, полный и даже с брюшком, выбритый и без бакенбард, с плотно выстриженными волосами на большой круглой голове, как-то особенно выпукло закругленной на затылке. Пухлое, круглое и немного курносое лицо его было цвета больного, темно-желтого, но довольно бодрое и даже насмешливое» [6, с. 192]. Как хорошо видно, цитаты, за исключением описания цвета лица, почти идентичны.
Идентична и манера поведения героев. Раскольникова настораживает «…его <Порфирия Петровича. – А.М.> маленькая, толстенькая и круглая фигура, как будто мячик, катавшийся в разные стороны и тотчас отскакивавший от всех стен и углов» [6, с. 256] В романе Набокова м-сье Пьер «ходил по камере, тихо, упруго ступая <ср. сопоставление с мячиком фигур Порфирия у Достоевского и Чичикова у Гоголя: «Окончив речь, гость с обворожительной приятностью подшаркнул ножкой и, несмотря на полноту корпуса, отпрыгнул тут же несколько назад с легкостью резинного мячика» [4, с. 248] – А.М.>, подрагивая мягкими частями тела, обхваченного казенной пижамкой, – и Цинциннат с тяжелым, унылым вниманием следил <Раскольникову перемещения следователя по комнате тоже кажутся «чрезвычайно странными». – А.М.> за каждым шагом проворного толстячка» (Современные записки. 1935. № 59. С. 70).
Это внешнее сходство коррелируется с поведенческой стратегией персонажей. Порфирий Петрович Достоевского участливо подводит «неразумного» Раскольникова к признанию своей вины 6, набоковский Петр Петрович ласково приглашает Цинцинната на казнь, но и тот и другой подготавливают «клиентов» к приятию и пониманию тех пенитенциарных мер, которые в широком ассортименте предоставляются другим во всяком стремящимся к единству обществе. Внушение мысли, что все делается «для их же блага», диктует особый вид отношений между персонажами, строящийся на модели доктор/больной. Когда м-сье Пьера «представляли» Цинциннату, «тот на какие-то полсекунды дольше, чем это обычно бывает, задержал в своей мягкой маленькой лапе ускользавшие пальцы Цинцин-ната, как затягивает пожатие пожилой ласковый доктор, – так мягко, так аппетитно, – и вот отпустил» (Современные записки. 1935. № 59. С. 47). Порфирий тоже обеспокоен здоровьем подопечного: «Слышал даже, что уж очень были чем-то расстроены. Вы и теперь как будто бледны?» [6, с. 194]; «болезнь, Родион Романович, болезнь! Болезнию своей пренебрегать слишком начали-с. Посоветовались бы вы с опытным медиком… » [6, с. 266]. Впрочем, набоковского заплечных дел доктора интересует прежде всего состояние шей- ных позвонков Цинцинната: «Простите, – что это у вас на шее, – вот тут, тут, – да, тут», а узнав, что «все в исправности», он «отодвинулся и хлопнул пациента по загривку» (Современные записки. 1935. № 59. С. 67–68). Оба «доктора» сетуют на затруднительное положение «больного», переживают, сочувствуют: Порфирий суетится при виде разъяренного Раскольникова: «Воздуху пропустить, свежего! Да водицы бы вам, голубчик, испить, ведь это припадок-с!» [6, с. 264]. У Пьера тоже свои догадки по поводу Цинциннатовых недугов: «Ах, я понимаю, что вы нервны, что вам трудно без женщины…» (Современные записки. 1935. № 59. С. 71).
Интертекстуальные эффекты призваны усилить некоторые важные для нас смысловые референции, например, отчетливое сравнение Цинцинната с ребенком 7 – в свете рассмотренного выше материала об удобожерт-венных категориях это сопоставление выглядит более чем репрезентативным. Ср.: «…он <Цинциннат> неверно ставил ноги, вроде ребенка, только что научившегося ступать… »; «Родион, обняв его, как младенца, бережно снял… »; «Цинциннат ковырял шнурок халата, потупясь, стараясь не плакать»; «Цинцин-нат мог сойти за болезненного отрока, – даже его затылок, с длинной выемкой и хвостиком мокрых волос, был мальчишеский – и на редкость сподручный»; «Цинциннат, утомясь, лез как ребенок, начиная все с той же ноги»; «Ведь они оба дети», – характеризует Цинцинната и Эммочку педагогически настроенный м-сье Пьер. Такое отношение к Цинциннату имеет отчетливое структурное местоположение в литературной антиутопической традиции. Как пишет А. Жолковский, «Государство видит в нем Ребенка, за которым всячески присматривает. Но детскость Героя имеет и другую сторону – непослушание, спонтанность, близость к природе, невключенность в социальную организацию» [8, с. 172].
Наконец, литературные аллюзии в «Приглашении… » активно участвуют в конструировании и такой важной для русского текста «Современных записок» эсхатологической оппозиции, как Христос/Антихрист (Бог/дья-вол) 8. Возникновение этой оппозиции в сложившейся образной ситуации неизбежно – фигура трикстера (плута, искусителя) в иудеох- ристианской традиции стала напрямую соотноситься с фигурой дьявола, сатаны. Как указывает О.М. Фрейденберг, к (пародийному) двойнику героя «присоединяется ряд других метафор «смерти»» [17, с. 210]. Близость образа трикстера к сакральной фигуре дьявола отмечается почти всеми исследователями 9.
В «Приглашении на казнь» эта сакральная референция выражена в противопоставлении двух фигур, выступающих обязательными инкрустантами мифологемы Хаоса – Христа и Антихриста . Аллюзия на первую из этих эсхатологических фигур возникает всякий раз, когда речь идет о Цинциннате. Ср.: после оглашения приговора Цинциннат шел, «как человек, во сне увидевший, что идет по воде , но вдруг усомнившийся: да можно ли?»; «Цинциннат лежал на плитах крестом …»; «Пьяный, слабый, скользя по жесткому дерну и балансируя, он двинулся вниз, и к нему сразу из-за выступа стены, где предостерегающе шуршал траурный терновник , выскочила Эммочка… » (курсив наш. – А.М.). Аллюзией на евангельский эпизод с хождениями по воде может служить и детское воспоминание героя романа: «В печали, в рассеянии, бесчувственно и невинно, – вместо того чтобы спуститься в сад по лестнице (галерея находилась на третьем этаже), – я, не думая о том, что делаю, но, в сущности, послушно, даже смиренно, прямо с подоконника сошел на пухлый воздух и, – ничего не испытав особенного кроме полуощущения босоты (хотя был обут), – медленно двинулся, естественнейшим образом ступил вперед, все так же рассеянно посасывая и разглядывая палец, который утром занозил… но вдруг необыкновенная, оглушительная тишина вывела меня из раздумья, – я увидел… себя самого – мальчика в розовой рубашке, застывшего стоймя среди воздуха…» (Современные записки. 1935. № 59. С. 59–60).
В свою очередь Пьер выступает как искуситель Цинцинната, дьявольский соблазнитель, темная сторона его «божественного» начала. Следующие слова Пьера выступают более чем красноречивой аллюзией на евангельскую сцену искушения Христа в пустыне: «Он <Цинциннат> сегодня просто злюка. Даже не смотрит. Царства ему предлагаешь, а он дуется. Мне ведь нужно так мало, – одно словцо, кивок» (Современные записки. 1936. № 60. С. 65). Предлагаемые Пьером «царства» (потерю которых должен прочувствовать Цинциннат) есть ничто иное, как профанируемые (пародируемые 10) ценности Цинцинната, духовные (идеальные) ценности, обращенные в свою прямую противоположность. Дьявольская – по Набокову – пошлость палача способы дезавуировать и разрушить само понятие духовности как идеальной сущности и обратить ее в торжество материальных утех и «земных наслаждений»:
« – Далее, – сказал м-сье Пьер, – переходим к наслаждениям духовного порядка. Вспомните, как бывало в грандиозной картинной галерее или музее, вы останавливались вдруг и не могли оторвать глаз от какого-нибудь пикантного торса – увы, из бронзы или мрамора. Это мы можем назвать: наслаждение искусством, – оно занимает в жизни немалое место.
– Еще бы, – сказал в нос Родриг Иванович и посмотрел на Цинцинната.
– Гастрономические наслаждения, – продолжал м-сье Пьер. – Смотрите: вот – лучшие сорта фруктов свисают с древесных ветвей; вот – мясник и его помощники влекут свинью, кричащую так, как будто ее режут; вот – на красивой тарелке солидный кусок белого сала; вот – столовое вино, вишневка; вот – рыбка, – не знаю, как остальные, но я большой охотник до леща.
– Одобряю, – пробасил Родриг Иванович.
– Этот чудной пир приходится покинуть. И еще многое приходится покинуть: праздничную музыку; любимые вещички, вроде фотоаппарата или трубки; дружеские беседы; блаженство отправления естественных надобностей, которые некоторые ставят наравне с блаженством любви; сон после обеда; курение… Что еще? Любимые вещицы, – да, это уже было, (опять появилась шпаргалка). – Блаженство… и это было. Ну, всякие еще мелочи…» (Современные записки. 1936. № 60. С. 63–64).
Пьер переворачивает, переиначивает все то, что дорого для Цинцинната, меняет с «плюса» на «минус» вектор его ценностной шкалы, дублирует ее «изнанку». И если, как мы убедились, в образе Цинцинната видна явная аллюзивность на Христа, то его семантическая противоположность – Антихрист – выступает символическим заместителем образа Пьера. То есть оппозиция Цинциннат/Пьер символически дублируют оппозицию Хрис-тос/Антихрист через референцию оппозиции герой/трикстер. Как указывает К.Г. Юнг, фигуре трикстера генетически присущи черты дьявола «как simia dei (обезьяны Бога)» [21, с. 338], профанирующего святыни и саму идею Бога. Но если «дьявол, – пишет С. Аверинцев, – по средневековому выражению, – «обезьяна Бога», то Антихрист – «обезьяна Христа», его фальшивый двойник». И далее: «Этот Антихрист – космический узурпатор и самозванец, носящий маску Христа, которого отрицает, но стремится занять место Христа, быть за него принятым. Роль Антихриста как «лжеца» реализуется и в его лицемерии, имитирующем добродетель Христа, и в его ложном чудотворстве, имитирующем чудеса Христа» [1, с. 85]. Так же, как Антихрист «присваивает» себе Христа, одевает его маску, подделывается под Него, так и Пьер пытается максимально с Цинциннатом, надеть маску узника – в разговоре с главным героем Пьер представляется невинно пострадавшим за организацию его побега 11.
Теперь настало время перейти к такой очень важной составляющей фигуры трикстера (и его символических репрезентантов – дьявола 12, антихриста и т. д.), как способность к перевоплощению, видоизменению, бесконечным метаморфозам. Как и положено всякой нежити, Пьер «не имеет лика своего»13, он всякий раз предстает перед Цинциннатом в разном виде, в разном обличье. От роли смиренного узника он переходит к роли мастера игр и философствующего восточного сибарита, от роли клоуна к роли мудрого исповедника; он постоянного меняет наряды – полосатая пижама, парчовая тюбетейка, желтый паричок, косоворотка с петушками, бархатная куртка и сапоги («чем-то делавшие его похожим на оперного лесника»), охотничий гороховый костюмчик, плащ с капюшоном и т. д. М-сье Пьер старается вовлечь Цинцинната в калейдоскопическое кружение этих превращений, адский хоровод сменяющих друг друга масок, скрывающих под собой лишь одну реальность – реальность коллективного насилия над другим.
Меняющий перед Цинциннатом роли и маски Пьер, выступая, как мы уже говорили, легатом и даже символом «демонофаничес-кого» мира, в котором оказался главный герой, выражает самую его суть. Бутафорский (игрушечный паук, хорошо сделанная луна, нарисованные тюремные часы и т.п.) «наспех сколоченный» из декораций 14, мир «настоящего» столь же изменяем и переменчив, как и главный его представитель. Именно на уровне характеристики и воссоздания атмосферы этого мира необыкновенно четко проступает уже хорошо знакомая нам символика театра, артикулируемая на пространстве русского текста «Современных записок» почти всякий раз, когда идет речь о наступлении революционного Хаоса и торжестве большевистской диктатуры. В «Приглашении на казнь» постоянно напрямую говорится о том, что все происходящее вокруг Цинцинната – пошлый фарс, буффонада, цирковое представление:
«Незаметно дыша, он <Пьер> долго, тщательно вытирал руки красным платочком, покамест паук, как меньшой в цирковой семье, проделывал нетрудный меленький трюк над паутиной. Бросив ему платок, м-сье Пьер вскричал по-французски и оказался стоящим на руках. <…>
– Ну что? – спросил он, снова встрянув и приводя себя в порядок. Из коридора донесся гул рукоплесканий – и потом, отдельно, на ходу, расхлябанно, захлопал клоун, но бацнулся о барьер.
– Ну что? – повторил м-сье Пьер. – Силушка есть? Ловкость налицо? Али вам этого еще недостаточно?
М-сье Пьер одним прыжком вскочил на стол, встал на руки и зубами схватился за спинку стула. Музыка замерла. М-сье Пьер поднимал крепко закушенный стол, вздрагивали натуженные мускулы, да скрипела челюсть. Тихо отпахнулась дверь – и в ботфортах, с бичом, напудренный и ярко, до сиреневой слепоты, освещенный, вошел директор цирка.
– Сенсация! Мировой номер! – прошептал они, сняв цилиндр, сел подле Цинцинната. <…> …Родриг Иванович бешено аплодировал. Арена, однако, оставалась пуста. Он подозрительно глянул на Цинцинната, похлопал еще, но без прежнего жара, вздрогнул и с расстроенным видом покинул ложу. На том представление и кончилось» (Современные записки. 1935. № 59. С. 72–74).
Последний персонаж – «директор цирка» Родриг Иванович – одновременно выступает директором тюрьмы, а также время от времени меняется именем и статусом с адвокатом Романом Виссарионовичем и тюремщиком Родионом (их имена – явная интертекстуальная отсылка к фигуре Сталина и Раскольникова). В течение повествования явно педалируется их взаимозаменимость, неразличимость их лиц, одежды, профессиональных функций. Это двойники, близнецы (вспомним, что на процессе Цинцинната, по закону, адвокат и прокурор должны быть братьями-близнецами), чудовищная природа которых становится проявленной (и в то же время – служит ее символической репрезентацией), по Жирару, именно в ситуации социального кризиса, в ситуации всеобщей неразличимости, обезличивания, коллективного насилия. Двоящиеся, троящиеся фигуры наполняют собой призрачный мир набоковского романа. Их гротескные, гибридные тени, пересекаясь, словно составляют решетчатую, полосатую ткань этого мира, так мучающего Цинцинната своей театральной нереальностью. «Все персонажи – двойники, – пишет Жирар, – следовательно все они – также и монстры» [7, с. 305].
Главного героя романа, в итоге, окружают не что иное, как маски (мы уже отмечали, элементы структурации комедии дель арте легли в основу образной структуры «Приглашения на казнь», лишь имитирующие человеческое лицо, человеческое присутствие. И здесь материал нашего исследования вновь диктует обращение к методологии Жирара, который, заметив, что «маски должны служить какой-то цели, во всех обществах аналогичной», возводит этот феномен (как, впрочем, и феномен праздника) к механизму потери различий во время социального кризиса: «Маска сополагает и смешивает существа и предметы, разделенные различием. Она стоит по ту сторону различий, но не просто их преступает или стирает – она их вбирает в себя, комбинирует необычным образом; иначе говоря, она – не что иное, как чудовищный двойник» [7, с. 103–104]. Другими словами, за псевдочеловеческой поверхностью маски скрыт подлинный лик – лик насилия, неспособного, как следует из романа, вновь обрести человеческое обличье 15. Этот страшный карнавал (ср. феномен праздника у Жирара), безостановочно движение масок и ролей вовлекают (или пытаются вовлечь) и Цинцинната в этот тотальный процесс смены различия подобием и наоборот. Именно в рамках этого образующего оппозиции процесса Цинциннату – помимо роли жертвы и ее символических репрезентантов – отведе- на и еще одна важная роль – роль священного короля.
Прежде всего поместим эту роль в ряд иных символических противопоставлений – бог/дьявол, герой/Трикстер, царь/шут и т. д., восходящих к оппозиции подлинное/ими-тация ( чистое/нечистое ). И если символ маски есть атрибут трикстера (дьявольского, Хаоса ), то его элиминация есть элемент признакового поля героя (божественного, Космоса ). Э. Канетти в работе «Масса и власть» выразил это символическое противопоставление в виде оппозиции трикстер/священный король . «На одном полюсе, – пишет Канет-ти, – стоит мастер превращений , который в состоянии принять любой образ, будь это образ животного, духа животного или духа умершего. Это Трикстер , посредством превращений вбирающий в себя других, – любимая фигура североамериканских индейцев. На бесчисленных превращениях и основана его власть. <…> Если сравнить мастера превращений со священным королем , который подпадет под сотни ограничений, который должен пребывать в одном и том же месте, при этом оставаясь неизменным , к которому нельзя приблизиться, которого даже нельзя увидеть, то становится ясно, что их различия, если свести их к наименьшему общему знаменателю, заключаются ни в чем ином, как в противоположном отношении к превращению. Король должен оставаться настолько самотождественным, что не может даже постареть. <…> Властитель неизменен и пребывает высоко, в определенном, четко ограниченном и постоянном месте» [10, с. 409– 410]. Отметив явную приложимость двух последних замечаний к главному герою, сфокусируемся на двух символических фигурах, уже обозначенных Канетти и нюансирующих образы Пьера и Цинцинната – короля и шута (трикстера) 16.
И прежде чем перейти к рассмотрению жертвенного статуса фигуры священного короля , обозначим синкретизм этой символической пары, а именно их взаимопереход-ность. На примере архаических текстов О.М. Фрейденберг демонстрирует, как ««дурачки» становятся будущими царями Солнца, владыками. …Смерть и глупость идут рядом, и потому там, где есть уже одна из метафор
«смерти», появляется и другая. Шут становится обязательной фигурой в драме, рядом с фигурой царя… » [17, с. 211]. Гибридные формы этой пары – шутовские цари – служат важнейшим элементом «карнавальной» культуры, исследованной М. Бахтиным. Выступая в качестве фигуры замещений , они служат серьезным регулятором социальных механизмов перехода . Та же амбивалентность сохраняется и в отношении к фигуре священного короля , приносимого в жертву ради спасения общества. Словно комментируя «Приглашение на казнь», Жирар пишет: «Король правит лишь в силу своей будущей смерти; он – не что иное, как жертва перед жертвоприношением, приговоренный в ожидании казни » (курсив наш. – А.М.) [7, с. 133].
Маргинальный статус Цинцинната определяет общую функциональную амбивалентность его образа, ставит его в условия смыслового перехода между полюсами указанных оппозиций, лишает образ функциональной статичности. Цинциннат другой для окружающих, но он словно бы застыл в своем поступательном движении к полюсу своего . Главный герой пытается избыть в себе этот искусственный, враждебный, но привычный мир, куда он помещен, и пока он совершает эти усилия, он принадлежит обоим мирам – он одновременно и гонимый всеми пария, шут 17 (побуждаемый к смене масок и ролей) и – как это ни парадоксально – священный (проклятый) король 18, милости и внимания которого все добиваются, чтобы потом пронести его в жертву. На подобную интроспективу указывает целый ряд значений, щедро оставленных Набоковым, в творчестве которого тема гонимых королей занимала особое место.
Обратимся к самому факту гипертрофированного внимания, которое оказывает Цинцин-нату приговорившее его к казни общество. Он окружен повышенной заботой и – пусть даже в издевательском, гротескном виде – ему оказывают известный «почет», что, по большому счету, и является главным предметом изображения в романе. Своеобразной кульминацией этого почитания выступает сцена приема у «отцов города», которую можно представить не только в виде символической свадьбы Пьера и Цин-цинната 19 («Обычай требовал, чтобы накануне казни пассивный ее участник и активный вместе являлись с коротким прощальным визитом ко всем главным чиновникам… » (Современные записки. 1936. № 60. С. 85)), но и как символическую коронацию Цинцинната (и его тени). Подобно фармаку и священному королю (чья взаимосвязь детально описана у того же Жирара) главный герой в этой сцене предстает как неприкасаемый («проклятый) – в присутствии Цинцинната, например, запрещается говорить скабрезности и слишком откровенно его разглядывать. Хлебнуть «винца до венца» предлагает ему брат Марфиньки. Наконец, Пьер «вылил из своего бокала каплю вина Цинциннату на темя, а затем открыл и себя» (Современные записки. 1936. № 60. С. 89), совершив ритуальное помазание на царство 20. Действительно, сцена «визита к отцам города» отчетливо инкрустирована Набоковым не только как венчание, но – особенно если поместить роман в герменевтические условия русского текста «Современных записок» – и как (пародийное) венчание на царство. Похожие на «райских птиц» слуги и торжественно «распахнувшиеся» от хлопка в ладоши двери в зал, где «стол поднимался, как пологая алмазная гора», представляют собой явную аллюзию на инаугурационные «царские двери» («царские врата») – так «в русской церкви называются центральные – иначе говоря, средние – двери алтаря. При этом «царские двери» здесь непосредственно ассоциируются с Христом: согласно общепринятому толкованию, они называются так потому, что на литургии чрез них исходит Царь славы (Христос) для напитания верных своим телом и своею кровию» [16, с. 144] 21. Рыбный нож (а чуть позже – «мумия сигары»), который держит в руках Цинциннат, и стоящие рядом с ним «яблоки с детскую голову» символизируют скипетр и знаменитое «яблоко» – державу, впервые врученное русскому царю при венчании на царство Бориса Годунова. Можно продолжать приводить примеры 22, но их социоструктурная значимость остается той же, что и в архаических обществах, сравнительный анализ которых предпринимает Жирар: «В случае этих жертвоприношений между выбором жертвы и ее убиением проходит какое-то время, в течение которого делается все для исполнения желаний будущей жертвы, перед ней простираются ниц, наперебой стараются коснуться ее одежд. Мы не преувеличим, сказав, что с будущей жертвой обращаются как с «настоящим божеством»23 или что она обладает «своего рода почетной царской властью». Несколько позже все завершается жестоким убийством… » [7, с. 366].
Любопытно, но этими сугубо структурными параллелями с архаическими ритуалами герменевтика жертвоприношения в «Приглашении на казнь» не ограничивается. Роман полон явных аллюзий на Французскую революцию, составляющей, если суммировать наблюдения А. Долинина [см. об этом: 22], отчетливый (ис-торико-) символический рисунок набоковского текста. Укажем, вслед за Долининым, лишь одним из самых красноречивых параллелей – казнь Людовика XVI. Перед поездкой на эшафот Цинциннат просит уединиться на три минуты. Ср. у Т. Карлейля: «В девять часов Сантер говорит: «Пора». Король просит позволения удалиться еще на три минуты. По прошествии трех минут Сантер повторяет, что пора. Топнув правой ногой о пол, Людовик отвечает: «Partons» (едем)» [9, с. 428]. «Идем же!» – по прошествии трех минут взвизгивает Пьер у Набокова.
Не отменяющая текстологической точности многочисленность приведенных (и непри-веденных) аналогий и параллелей поражает своим органическим единством лишь по одной причине – не рискуя увидеть Набокова в роли досужего книгочея, мы поместили один из его «знаковых» романов в совершенно определенные герменевтические условия. Его расположение на поле русского текста обеспечивает тотальное включение социологических кодов, при котором обычно латентно выраженная семантика жертвоприношения начинает играть роль смыслового интегратора, позволяющего свести воедино, казалось бы, столь различные интерпретации романа, продемонстрировать удивительное единство всех символических – и не только – его элементов. Знакомые нам по предыдущим параграфам символические комплексы и мифологические константы – символика сакральных пространств, хронотопы «золотого века», символика страстей и т. д. – при контекстуальном анализе «Приглашения на казнь» дополняются целым рядом новых семиотических образований (мифосим-воликой Другого, трикстера и «проклятых королей»), чтобы в очередной раз репрезентировать революционную семантику мифологе- мы Хаоса, столь разнообразно, как мы только что убедились, представленную на пространстве русского текста «Современных записок». В очередной раз смыкается герменевтический круг, чтобы разомкнуться вновь – навстречу новым символическим значениям в романе все того же автора.
Список литературы «Приглашение на казнь» В.В. Набокова и русский текст «Современных записок»: другой, трикстер и символы «проклятых королей» (статья вторая)
- Аверинцев, С.С. Антихрист/С.С. Аверинцев//Мифы народов мира: Энциклопедия. В 2 т. Т. 1. -М.: Советская Энциклопедия, 1987. -С. 85-86.
- Анненский, И.Ф. Книги отражений/И.Ф. Анненский. -М.: Наука, 1979. -679 с.
- Бахтин, М.М. Формы времени и хронотопа в романе/М.М. Бахтин//Бахтин М.М. Эпос и роман. -СПб.: Азбука, 2000. -С. 11-194.
- Гоголь, Н.В. Собрание сочинений: В 9 т. Т. 5./Н.В. Гоголь. -М.: Русская книга, 1999. -458 с.
- Давыдов, С. «Тексты-матрешки» Владимира Набокова/С. Давыдов. -СПб.: Карцидели, 2004. -158 с.
- Достоевский, Ф.М. Полное собрание сочинений: В 30 т. Т.6./Ф.М. Достоевский. -М.: Наука, 1973. -562 с.
- Жирар, Р. Насилие и священное/Р. Жирар. -М.: Новое литературное обозрение, 2000. -400 с.
- Жолковский, А.К. Блуждающие сны и другие работы/А.К. Жолковский. -М.: Наука, 1994. -428 с.
- Карлейль, Т. История Французской революции/Т. Карлейль. -М.: Мысль, 1991. -575 с.
- Канетти, Э. Масса и власть/Э. Канетти. -М.: Ad Marginem, 1997. -528 с.
- Млечко, А.В. Игра, тетатекст, трикстер: пародия в «русских» романах В.В. Набокова/А.В. Млечко. -Волгоград: Изд-во Волгоградского гос. ун-та, 2000. -188 с.
- Мюшембле, Р. Очерки по истории дьявола: XII-XX вв./Р. Мюшембле. -М.: Новое литературное обозрение, 2005. -584 с.
- Набоков, В.В. Лекции по русской литературе/В.В. Набоков. -М.: Независимая газета, 1996. -440 с.
- Руднев, В. Морфология реальности: Исследование по «философии текста»/В. Руднев. -М.: Русское феноменологическое общество, 1996. -207 с.
- Успенский, Б.А. Царь и самозванец: самозванчество в России как культурно-исторический феномен/Б.А. Успенский//Успенский Б.А. Избранные труды. Т.1. Семиотика истории. Семиотика культуры. -М.: Школа «Языка русской культуры», 1996. -С. 142-184.
- Успенский, Б.А. Царь и патриарх: харизма власти в России (Византийская модель и ее русское переосмысление)/Б.А. Успенский. -М.: Школа «Языки русской культуры», 1998. -680 с.
- Фрейденберг, О.М. Поэтика сюжета и жанра/О.М. Фрейденберг. -М.: Лабиринт, 1997. -448 с.
- Шапиро, Г. Реминисценции из «Мертвых душ» в «Приглашении на казнь» Набокова/Г. Шапиро//Гоголевский сборник. -СПб.: Образование, 1994. -С. 175-181.
- Шестов, Л. Достоевский и Ницше (Философия трагедии)/Л. Шестов//Шестов Л. Избранные сочинения. -М.: Ренессанс, 1993. -С. 159-326.
- Элиаде, М. Космос и история. Избранные работы/М. Элиаде. -М.: Прогресс, 1987. -312 с.
- Юнг, К.Г. Душа и миф: шесть архетипов/К.Г. Юнг. -М.-К.: ЗАО «Совершенство» -«Port-Royal», 1997. -384 с.
- Dolinin, А. Thriller Square and The Place de la Rеvolution: Allussions to the French Revolution in «Invitation to a Beheading»/А. Dolinin//The Nabokovian. 1997 (spring). Vol. 38. -P. 43-49.