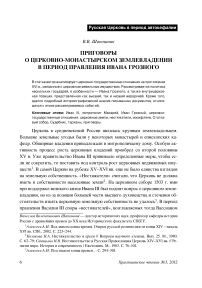Приговоры о церковно-монастырском землевладении в период правления Ивана Грозного
Автор: Шапошник Вячеслав Валентинович
Журнал: Христианское чтение @christian-reading
Рубрика: Русская Церковь в период автокефалии
Статья в выпуске: 3 (44), 2012 года.
Бесплатный доступ
В статье автор анализирует церковно-государственные отношения на протяжении XVI в., связанные с церковным земельным имуществом. Рассматривается политика нескольких государей, в особенности — Ивана Грозного, а также внутрицерковная позиция, представленная как высшей, так и низшей иерархией. Кроме того, дается подробный историографический анализ письменных документов, относящихся к эпохе рассматриваемых событий.
Иван iii, митрополит макарий, иван грозный, церковногосударственные отношения, церковные земли, нестяжатели, иосифляне, стоглавый собор, судебник, тарханы, приговоры
Короткий адрес: https://sciup.org/140189970
IDR: 140189970
Текст научной статьи Приговоры о церковно-монастырском землевладении в период правления Ивана Грозного
Патрикеевым, и «иосифлян», во главе с Иосифом Волоцким, продолжались. Но в конечном итоге победа досталась последователям Иосифа, которые занимали важнейшие посты в церковной иерархии 4 .
К концу первой трети XVI в. «нестяжатели», как влиятельная группировка внутри Церкви, перестали существовать 5 . Между тем, земельные владения Церкви продолжали увеличиваться и, в первую очередь, за счет вкладов на помин души. В таких условиях вопрос о церковно-монастырском землевладении рано или поздно должен был снова встать на повестку дня. После окончания боярского правления при молодом Иване IV формируется новое правительство, которое обычно называют «Избранной радой». Начинается период реформ, в ходе которых проблема церковных недвижимых имуществ оказалась в центре внимания. Причинами этого являлись, с одной стороны, интересы служилых людей (так как сокращалось светское землевладение), ас другой — интересы государства, которому необходимы были населенные земли для раздачи помещикам (активная внешняя политика требовала увеличения и обеспечения армии). Кроме того, большая часть церковно-монастырских земель имела так называемые тарханы — освобождение от уплаты налогов, что негативно влияло на состояние государственной казны. Уже в Судебнике 1550 г. содержалась 43-я статья с запретом выдавать тарханные грамоты и предписывающая отобрать ранее вы-данные 6 .
От этого же времени дошел до нас ответ митрополита Макария царю Ивану IV. По мнению А.И. Плигузова, он был написан в промежуток времени между 16 января 1547 г. и июлем 1551 г. и отразил самый напряженный момент полемики о методах государственной регламентации церковного и монастырского землевладения7. Представляется, что можно сузить временной промежуток, в течение которого был написан ответ. В мае 1551 г. «Стоглав» был уже составлен, собор же начался не позднее 23 февраля (а, скорее, и раньше этой даты). Можно предположить, что ответ митр. Макария подготовлен до открытия собо- ра, то есть не позднее февраля 1551 г.8 Как можно понять из текста, царь предложил митрополиту Макарию уступить часть владений митрополичьего дома. Ответу на это предложение и посвящено послание.
В ответе использованы многочисленные ссылки на Константинов дар, Устав князя Владимира, ярлыки ханов Золотой Орды. Митр. Макарий пишет, что царю подобает «свою царскую веру к Богу показати и велие тщание к святым церквам и святым монастырям, не токмо недвижимая взымати, но и самому ти подобает подавати, якоже и вси святые царские твои прародители и родители подаваху Богови в наследие благ вечных». Далее он пишет: если епископ или игумен отдаст или продаст церковные земли князю, то будет изгнан из еписко-пии или из монастыря. Священники — лишаются сана, мирские люди — отлучаются от церковного общения.
После этой вступительной части митрополит переходит к существу дела: «Не могу на таковая страшная дерзати и помыслити ‹…› из Дому Пречистой Богородицы и великих чюдотворцев таковая отдати или продати, не буди того. И до последнего нашего издыхания избави всех нас всесильный Боже и схорони от такого законопреступления и не попусти такому быти не только при нас, но и по нас до скончания века». Далее митр. Макарий указывает, что в свое время, при поставлении, он дал клятву говорить царю правду даже под угрозой смерти. Поэтому он требует: «и глаголю ти, о благочестивый царю, и молю твое царское величество: останися, государь, и не сотвори такова начинания, его же Бог не повеле вам, православным царям, таковая творити».
Заканчивается ответ следующим заявлением: «И того ради молим твое царское величество и много с слезами челом бием, чтобы ‹…› по тем Божественным правилом у Пречистой Богородицы и у великих чудотворцев из дому тех недвижных вещей, вданных Богови в наследие благ вечных, не велел взяти» 9 .
Можно видеть, что митрополит Макарий выступил резко против попыток правительства изъять земли, принадлежавшие митрополичьей кафедре. На Стоглавом соборе, проходившем в 1551 г., вопрос о церковно-монастырском землевладении также рассматривался. В книге соборных решений «Стоглаве» в 75-й главе говорится о неприкосновенности церковных и монастырских земель, и категорически отвергаются любые попытки изъятия церковных владений. В то же время, указывается на необходимость монахам строго соблюдать свои обязанности — поминать души вкладчиков10. Казалось бы, вопрос о церковных недвижимых имуществах решен окончательно и однозначно. Однако в большинстве списков «Стоглава» находится 101-я глава — Приговор о вотчинах.
В чем же заключался Приговор? Во-первых, духовенству было запрещено покупать вотчины без доклада царю под угрозой конфискации. Во-вторых, данные «по душам» вотчины запрещалось выкупать, кроме особо оговоренных в завещании случаев. В-третьих, поместные и черные земли, которые перешли духовенству «насильством» или за долги, предписывалось вернуть старым владельцам (предварительно наведя справки). В-четвертых, земли, перешедшие епископам и монастырям после смерти Василия Ивановича, надлежало вернуть в казну (так как речь шла именно о государственных землях). В-пятых, всю ругу (выплаты деньгами и натурой) монастырям и церквам предлагалось вернуть к тем размерам, какие были при великом князе Василии. В-шестых, землевладельцам определенных областей запрещалось продавать свои земли иногородцам и отдавать в монастыри «по душам». В-седьмых, вотчины, поступившие в монастыри до этого Приговора, от землевладельцев этих уездов, изымались (за деньги) и поступали в поместную раздачу 11 .
Как видим, наибольшие экономические потери могли понести монастыри. Хотя вотчины, поступившие «по душам», должны были в основной своей массе остаться в собственности обителей. Также очевидно, что некоторые пункты Приговора вступают в противоречие с только что принятыми решениями самого собора. Удивляет сама возможность принятия подобного Приговора, противоречащая в некоторых пунктах соборным постановлениям. Возможно, что используя внутрицерковные противоречия, светской части правительства удалось договориться с представителями иерархии, которые по Приговору теряли не очень много (земли, захваченные «насильством», переданные боярскими правительствами и возможность свободно покупать вотчины). Кроме того, нельзя исключить, что у владык и не было земель, подлежащих конфискации. Мало Приговор коснулся и основной массы белого духовенства (некоторые его представители могли потерять только ругу).
Этому Приговору исследователи уделяли большое внимание. И.И. Смирнов пришел к выводу, что он ограничивал свободу распоряжения княжескими и боярскими вотчинами их владельцев и определил принципиальную линию правительства Ивана Грозного по отношению к княжеским вотчинам, выражавшуюся в стремлении к ликвидации княжеского землевладе-ния 12 . В другой своей работе ученый писал о том, что Приговор поставил под правительственный контроль рост монастырского землевладения и одновременно сводил на нет все успехи, которые сделало это землевладение в годы княжеско-боярской реакции 13 .
С.Б. Веселовский отмечал, что отныне все земельные приобретения монастырей и церквей были поставлены в зависимость от усмотрения царя. По наблюдениям ученого, первое время сделки на землю действительно совершались с доклада, но затем упоминания о докладе не встречаются 14 . Б.А. Романов в своем исследовании подверг критике тезис И.И. Смирнова об антикняжеской направленности Приговора. По мнению автора, в нем не было ничего, направленного против бояр и княжат. Ученый отмечает, что основная проблема, занимавшая правительство в это время — это «обуздание» владычного и монастырского землевладения, которое наступало на весь светский сектор вотчинного землевладения. Причем речь шла не о наступательных мерах, а лишь о ликвидации последствий «случившегося раньше расхищения земель святителями и монастырями» 15 .
Некоторые пункты Приговора рассмотрела Г.Н. Моисеева. Касаясь запрета на выкуп вотчин, данных «по душе», она пишет: «в этом пункте Приговора мы видим стремление государственной власти не только ограничить рост монастырского землевладения путем запрета принятия земельных вкладов, но и попытку прекратить экономические сделки с монастырями крупной феодальной знати». Говоря об изъятии у монастырей и епископов земель, данных боярами во время боярского правления, автор указывает: «этот пункт Приговора ‹…› убедительно подтверждает заинтересованность крупной феодальной знати в существовании церковного и монастырского землевладения» 16 . Р.Г. Скрынников пришел к выводу, что правительству удалось принять Приговор не без определенных трудностей: пришлось «сломить сопротивление официального руководства Церкви». Данный акт имел целью частичную секуляризацию церковных владений и установление контроля за дальнейшим ростом монастырских земельных богатств 17 .
Н.Е. Носов считал, что Приговор — это итог обсуждения на Стоглавом соборе вопроса о секуляризации церковных земель. Принятые меры носили оградительный характер защиты светского землевладения от церковной «экс-пансии» 18 . По мнению В.Б. Кобрина, этот документ содержит не ограничение прав вотчинников, аих привилегии, и направлен он, в княжеской части, на «консервацию удельной старины» 19 . А.Л. Юрганов пришел к выводу, что главное не то, что написано в указе, а то, что государственная власть считала для себя возможным вмешиваться в отношения собственности. Конкретное же содержание документа — сохранение княжеских корпораций 20 .
По нашему мнению, Приговор от 11 мая был выгоден, прежде всего, казне. По нему большие потери могло понести именно черное духовенство. Хотя и владыки подпадали под статьи об изъятии захваченных «насильством» земель и розданных боярскими правительствами владений, но, видимо, их потери были неизмеримо меньше потерь монастырей, так как иерархи большие доходы получали от управления епархиями и суда. Казна же получала возможность сбросить с себя тяжкое бремя ежегодных выплат духовным корпорациям. Было достигнуто, можно сказать, соглашение иерархов с правительством за счет монастырей.
Сразу же после окончания работ Стоглавого собора в мае 1551 г. правительство провело пересмотр жалованных грамот. Этот вопрос был предметом пристального изучения отечественных историков 21 . Наиболее полно эту проблему рассмотрел С.М. Каштанов. По его вполне обоснованному мнению, в мае 1551 г. произошла ликвидация монастырских тарханов, которая укрепила государственные финансы. Исследователь имеет в виду то, что с монастырских вотчин стали взиматься основные государственные налоги. Это явилось одной из важнейших реформ правительства Ивана Грозного, и до времен опричнины эта реформа проводилась в жизнь более или менее повсеместно 22 . Подобная мера была вызвана интересами государства и соответствовала Судебнику 1550 г. Очевидно, что и само духовенство осознавало нужду правительства в средствах для решения важнейших внешнеполитических задач и, видимо, не высказывало каких-либо протестов. Такое положение сохранялось до начала 60-х гг., когда внутриполитическая ситуация в стране стала резко обостряться. Разгорался ожесточенный конфликт в окружении Ивана Грозного, некоторые представители княжеской знати в это время оказались в опале 23 .
Отражением напряженных отношений Ивана Грозного со знатью явился Приговор о вотчинах от 15 января 1562 г. Этот документ ограничивал право княжат распоряжаться своим недвижимым имуществом, в том числе и передавать его в монастыри24. Исследователи отмечают антикняжескую направленность Приговора25. В то же время Р.Г. Скрынников считает, что законодатель- ство 1562 г. было направлено также и против интересов Церкви — так как ранее выморочные вотчины, как правило, доставались монастырям, теперь же они поступали в распоряжение казны26. Представляется, что это не совсем так: вклады в монастыри не запрещались и в годы опричнины их земельные владения резко увеличились, в том числе и за счет княжеских вотчин.
В 60–70-е гг. XVI в. экономическая ситуация в России была сложной: население было разорено голодом, ростом налогов, эпидемиями, войнами и бесчинствами опричников. Положение усугублялось тем, что разорение основной массы населения — крестьян — вело к тому, что служилые люди не могли выполнять свои обязанности перед государством. Кроме того, постоянные опалы и казни, вся обстановка неуверенности в завтрашнем дне привели к тому, что в 60-е г. огромное количество земель поступило во владение церковных учреждений, в первую очередь монастырей. Исследователями установлено, что вотчинное землевладение в годы опричнины пережило настоящую катастрофу. По оценке С.Б. Веселовского, во второй половине правления Ивана Грозного монастыри приобрели земельных владений не меньше, чем за предшествующие сто лет. С 1569 г. количество вкладов принимает огромные размеры. Хотя данные, приводимые этим ученым в различных работах, несколько отличаются, но основной вывод — о катастрофе вотчинного землевладения — не подлежит сомнению. Также очевидно, что создавшаяся в стране ситуация обогатила в первую очередь крупнейшие обители, на долю которых приходилось 99% вкла-дов27. На материалах Кирилло-Белозерского монастыря к подобным результатам пришел А.И. Копанев. Согласно его исследованиям, почти все вотчинные земли Белозерского края были поглощены монастырями, чему в немалой степени способствовала политическая обстановка 60–70-х гг.28 М.С. Черкасова, изучая землевладение Троицкого монастыря, установила, что до 1584 г. путем вкладов эта обитель получила 125 земельных владений и 48 тысяч руб- лей. С 60-х гг. рост монастырских владений принял «болезненно-лихорадочный, неестественно-учащенный, неуправляемый никем и ничем» характер. Причем вопреки запретительным Приговорам 1562 и 1572 гг. почти треть завещанных Троицкому монастырю земель являлась княжескими вотчинами29. Лишь выводы А.А. Зимина, полученные на основании изучения истории землевладения Иосифова монастыря, несколько расходятся с данными С.Б. Веселовского. Согласно исследованию А.А. Зимина, рост количества сделок на землю в этой обители наблюдается в 1567–1569 гг., а затем количество вкладов начинает значительно снижаться. Причем наибольшее количество вкладчиков — это неименитые вотчинники Рузского и Волоцкого уездов, которые не пострадали серьезно от опричных репрессий и переселений. Рост вкладов в 1567–1569 гг. А.А. Зимин связывает, в первую очередь, с голодом этих лет, когда погибло много мелких феодалов. Сам историк объясняет различие своих выводов с выводами С.Б. Веселовского спецификой используемого материала (С.Б. Веселовский использовал, в основном, акты Троицкого монастыря)30. Следует заметить, что выводы С.Б. Веселовского подтверждены исследованиями и других ученых (А.И. Копанева, М.С. Черкасовой). Различие определяется, скорее всего, спецификой Иосифова монастыря, вблизи которого не было крупного княжеско-боярского землевладения.
В такой ситуации правительство решило предпринять меры, направленные к ограничению роста церковных владений. 9 октября 1572 г. «по государеву цареву и великого князя приказу» митрополит Антоний, архиепископы, епископы, Освященный собор и «все бояря» во главе с князем И.Ф. Мстиславским приняли следующие решения, относящиеся к монастырскому землевладению: во-первых, в большие монастыри, «где вотчины много», запрещалось делать земельные вклады, даже если в завещании содержался подобный пункт, то землю все равно нельзя было записывать в Поместной избе. Вотчину следовало передавать родственникам покойного — «служилым людям», чтоб «в службе убытка не было и земля б из службы не выходила». Во-вторых, отныне наследникам запрещалось выкупать уже попавшие в обители земли. В-третьих, в небольшие маловотчинные монастыри вклады допускались, но лишь с ведома и одобрения самого царя и бояр31.
Некоторые исследователи считают, что Приговор 1572 г. был составлен и одобрен духовенством под прямым нажимом государственной власти, которая заботилась о военной годности своих слуг32. Однако, по мнению С.В. Рождественского, запретительные меры правительства очень мало продвинули вперед дело, так как касались только родовых вотчин высшего служилого класса и не отвергали обычая земельных вкладов, лишь ограничивали область его применения33. Часть историков пришла к выводу, что Приговор имеет антибоярскую направленность: княжата строго ограничивались в распоряжении своими вотчинами, наследование допускалось только самыми близкими родственниками. Запретом вкладов в крупные монастыри правительство пресекало попытки служилых людей укрыться за духовным феодалом в надежде, что их минует вихрь опричнины. П.А. Садиков полагает, что земельные законы очень «ревниво» соблюдались властью по отношению к князьям-вотчинникам34. Сходное мнение высказал и И.И. Смирнов35. С.О. Шмидт считает, что основная линия политики Ивана Грозного была направлена против светских феодалов. Когда же к началу 70-х гг. княжеско-боярские группы были ослаблены, начинается наступление верховной власти против привилегий (прежде всего, экономических) церковных феодалов, завершившееся в приговорах о монастырском зем-левладении36. В.Б. Кобрин и А.Л. Юрганов находят, что Приговор 1572 г. восстановил более или менее свободное обращение вотчин внутри рода, наследование близкими родственниками теперь осуществлялось без санкции царя. Таким образом, этот указ соотносится не с законодательством 1562 г., в котором княжеское землевладение было подвергнуто ограничениям, а с нормами зако- на 1551 г. Следовательно, законодательство 1572 г. не имеет выраженной анти-княжеской направленности37. По мнению Р.Г. Скрынникова, в Приговоре проводилась политика ограничения крупного княжеско-боярского землевладения в пользу казны и ограничения земельных богатств Церкви. Исследователь вступает в полемику с В.Б. Кобриным, считая, что Приговор был направлен против княжат и бояр и подтверждал не нормы 1551 г., а постановления кануна опричнины. Тем самым царь стремился продемонстрировать, что возврата к прошлому нет38. Р.Г. Скрынников обращает внимание на ухудшение отношений между царем и духовенством накануне принятия Приговора 1572 г. Он пишет: «Разгром новгородской церкви, ограбление местных монастырей и казнь лиц духовного звания ухудшили взаимоотношения между царем и церковниками39. Все это привело к тому, что власти вернулись к политике ограничения податных привилегий монастырей. Сразу после отмены опричнины власти издали 9 октября 1572 г. указ…»40
По нашему мнению, с трактовкой Р.Г. Скрынниковым появления земельного законодательства согласиться нельзя. У Ивана Грозного были конфликты с отдельными представителями Церкви, но не с церковной организацией в целом. После «дела» митрополита Филиппа неизвестно никаких протестов со стороны высшего духовенства против политики, проводившейся царем. Иерархи доказали свою лояльность, осудив архиепископа Пимена Новгородского и дав царю разрешение на вступление в четвертый брак 41 . Может быть, государь знал, тем не менее, о каком-либо скрытом недовольстве духовенства? Однако до нас подобные сведения не дошли. Очевидно, что меры, принятые в 1572 г. вызывались не личным конфликтом Ивана Грозного с Церковью, а интересами государства, как это и зафиксировано в Приговоре: «чтоб земля из службы не выходила».
Мнение о том, что Приговор был написан под диктовку правительства, видимо, не совсем справедливо. Ведь наряду с запретом давать земли в крупные монастыри вводился и запрет на выкуп вотчин. Следовательно, наличный земельный фонд обителей не мог уменьшиться. Крупные монастыри уже к 1572 г. обладали значительными земельными богатствами и теперь могли спокойно приступить к освоению недавно приобретенных земель. Недовольны новым законодательством могли бы быть мелкие обители, но как раз им-то и разрешалось увеличивать земельные владения путем принятия вкладов, поставленных, правда, согласно Приговору, под жесткий контроль государственной власти. Видимо, монастырские власти если и имели основание быть недовольными действиями правительства, то это недовольство относилось к упущенным возможностям, а не к реальным потерям.
Что же касается митрополита и епископов, то их материальные интересы Приговор вообще не затрагивал. Еще С.Б. Веселовский обратил внимание на то, что духовенство делилось на две части, интересы которых во многом не совпадали. Иерархи были заняты управлением епархиями, получали за счет этого большие доходы и мало интересовались землей и сельским хозяйством 42 . Сведения о доходах епископов и митрополита приводят в своих сочинениях побывавшие в России иностранцы 43 . В таких условиях давление царя на Освященный собор могло быть и не очень значительным — никаких серьезных негативных последствий для благосостояния как черного, так и белого духовенства Приговор 1572 г. иметь не мог. Представляется, что данное законодательство было направлено в будущее, антимонастырские тенденции если и были в нем, то крайне незначительные. Видимо, основной целью документа в части, посвященной монастырскому землевладению, было стремление сохранить сложившееся к осени 1572 г. положение и не допустить в будущем уменьшения светского сектора землевладения.
Согласие Освященного собора на одобрение Приговора было вызвано не тем, что «иосифляне» составляли к этому времени его меньшинство44, а тем, что в нем не было прямых посягательств на материальные интересы духовен- ства. Что же касается того, как земельное законодательство претворялось в жизнь, то исследования показывают, что постановления 1572 г. не имели серьезного практического значения — земельные богатства крупных монастырей продолжали увеличиваться, в том числе и за счет княжеских вотчин, хотя имеются и следы применения Приговора45.
К концу 70-х гг. экономическое положение России оставалось крайне тяжелым. Испытания выпали не только на долю основной массы населения — крестьян, но и на детей боярских — основную часть вооруженных сил. По мнению правительства, островками относительного благополучия являлись монастырские и церковные владения, сильно увеличившиеся за годы правления богомольного царя 46 . Впрочем, исследования историков свидетельствуют о том, что в самом конце 70-х гг. наблюдается резкое снижение количества вкладов в обители. По предположению С.Б. Веселовского, подобное явление связано с реакцией против них в среде самих вотчинников 47 . Ю.Г. Алексеев датирует уменьшение вкладов началом 80-х гг. Главную причину этого он видит не в правительственных мероприятиях, а в изменении условий жизни феодала: прекращении политики опал, переселений и казней. Исчез один из стимулов вкладов — стремление найти убежище в стенах монастыря 48 .
Как бы то ни было, начало 1580 г. ознаменовалось принятием Приговора, направленного на пресечение дальнейшего роста земельных владений Церкви. Основные положения этого акта следующие: во-первых, все церковные земли с 15 января 1580 г. остаются за их нынешними владельцами, запрещается выкуп вотчин и сами суды с монастырями по земельным делам, даже если владение не «утверждено крепостми». Во-вторых, запрещается делать земельные вклады по душе, вместо этого рекомендуется давать деньги. Вотчины же передавать родственникам, даже дальним, если таковых не окажется, то владение переходит государю, который и позаботится (приказав заплатить деньги из казны) об устройстве души землевладельца. В-третьих, духовенству запрещается покупать земли и держать их в закладе. К нарушителям запрета будут применяться санкции — земли перейдут в казну безденежно. В-четвертых, те земельные владения, которые в настоящее время находятся в закладе у иерархов и монастырей, также переходят в казну, однако за них будет выплачена компенсация: «а в денгах ведает Бог да государь, как своих богомолцев пожалует». В-пятых, судьба «княженецких вотчин», которые поступили духовенству до 15 января 1580 г., находится в руках царя — «как своих богомолцев пожалует». Если же кто осмелится после Приговора без специального разрешения правительства взять княжескую вотчину, то она переходит в казну безденежно. Если же княжеская вотчина досталась духовенству не по завещанию, а покупкой, то ее следует «взяти на государя, ав денгах ведает Бог да государь». В-шестых, архиереям и монастырям категорически запрещается увеличивать свой земельный фонд, «жити им на тех землях, что ныне за ними». В-седьмых, если монастырь не имеет земель или их недостаточно, то следует «бить челом государю», а он с митрополитом и боярами примет решение о выделении земельных владений «как будет пригоже».
Постановлениям предшествует вводная часть, в которой указывается на нашествие внешних врагов, которые «хотяху потребити Православие». Между тем земельные владения духовенства приходят в запустение, «в пустошь изну-ряхуся паче потребы, а воинственному чину от сего оскудение приходит велие». Чтобы церкви Божии были «без мятежа», а «воинский чин на брань противу врагов креста Христова ополчатца крепце» Освященный собор совместно с Иваном Грозным, царевичем Иваном и боярами и принял вышеизложенные решения 49 .
Считается, что именно о соборе 1580 г. идет речь и в мемуарах представителя английской торговой компании Дж. Горсея. По его словам, Иван Грозный решил изыскать богатства для царевича Ивана. С этой целью в столицу были затребованы представители духовенства, которым было предложено поделиться «частью своих несметных богатств». В ответ на это Освященный собор подал царю грамоту, в которой, судя по всему, содержался отказ выполнить требования монарха. Затем к царю были призваны 40 «наиболее значительных и назойливых духовных особ», перед которыми Иван Васильевич произнес речь, страстно бичуя различные пороки представителей Церкви. Дж. Горсей упоминает папского нунция, который якобы убеждал царя отдать Русскую Церковь под власть папы, и английского короля Генриха, закрывшего монастыри в своей стране. В заключение Иван Грозный потребовал предоставить список всех богатств и доходов духовенства, так как они необходимы для защиты страны от внешней угрозы. Ошеломленные служители Церкви вместе с «опальной знатью» долго обдумывали создавшееся положение и хотели «начать мятеж». Узнавший об этих замыслах царь приговорил часть монахов к смерти. В день св. Исаии семь человек были растерзаны медведями. Запуганное духовенство вынуждено было предоставить затребованный Иваном IV список. Таким путем царь заполучил 300 тысяч марок и многие земли. С помощью этих богатств Иван Грозный «усмирил недовольство своих бояр; многих из них царь возвысил, поэтому большинство его доверенных лиц, военачальников, слуг лучше исполняли все его намерения и планы». Дж. Горсей указывает, что в его распоряжении находился какой-то «подлинник» с которого он и сделал свой перевод50.
С.Б. Веселовский считал сочинение англичанина, в части, касающейся событий 1580 г., «правдоподобным» откликом «толков и слухов, которые ходили по Москве о борьбе духовенства с намерением правительства ограничить его права и привилегии», хотя «претензия на литературные эффекты сильно повредила его рассказу и придала ему некоторый оттенок фантастичности». Сходное мнение высказал и Л.В. Черепнин, считавший, что здесь видны «отголоски той борьбы, которая, очевидно, развернулась в среде господствующего класса». Конечно, это не объективное и достоверное описание реальных событий, но с его помощью мы имеем возможность «ощутить остроту ‹…› происходивших на заседаниях конфликтов». А.А. Севастьянова отмечает, что в тексте Дж. Горсея в действительности нет перевода документа, хотя совпадают мотивы вступительной части Приговора. Р.Г. Скрынников считает, что сведения Дж. Горсея нельзя использовать для обоснования мнения о столкновениях царя с духовенством 51 .
По нашему мнению, сочинение Дж. Горсея в этой части наполнено разнообразными неточностями и противоречиями. В самом деле, основной целью действий царя автор мемуаров считает желание приобрести богатства для наследника, что едва ли справедливо. Наряду с этим упоминается о раздаче приобретенных средств боярам, которые стали лучше служить. Не мог царь упоминать и папского нунция, так как в действительности А. Поссевино появился в России лишь спустя год после описываемых событий. Вряд ли Ивану Грозному были известны антимонастырские мероприятия английского правительства. Наконец, рассказ о казнях монахов в день св. Исайи (28 мая 52 ), вероятно, полностью выдуман. Никакие другие источники не сообщают о подобных казнях и, к тому же, Приговор был принят в январе, а не в мае. Очевидно, Дж. Горсей записал лишь слухи, часть из которых соответствовала действительности, а затем, спустя годы, приукрасил их совершенными небылицами для занимательности чтения. Таким образом, сочинение англичанина не может служить надежным источником для рассмотрения вопроса о борьбе духовенства с антицерковными проектами правительства.
Документ же, который не вызывает никаких сомнений в его подлинности — это сам Приговор, вызвавший большой интерес исследователей. Г.В. Вернадский пришел к выводу, что основной задачей правительства было увеличение земельного фонда и пополнение казны. Приговор представляет собой компромисс: основная масса земельных владений оставалась в распоряжении духовенства, но категорически запрещался дальнейший рост церковных вотчин. Некоторые же категории земель подлежали изъятию у монастырей. По мнению ученого, на этом же соборе рассматривался вопрос о введении заповедных лет53. С.В. Бахрушин писал о том, что в начале 80-х гг. правительство приступило к реформам, которые должны были помочь дворянству преодолеть последствия экономического кризиса и восстановить финансы. Реформы проводились за счет церковного землевладения и собор 1581 г. (так!) был первым шагом в этом направлении. Как можно понять из текста исследователя, на том же соборе монастыри лишились тарханов, что было сделано с целью не допустить перехода крестьян на льготные земли. Это являлось первым шагом к установлению крепостного права54.
С.Б. Веселовский считал, что Приговор 1580 г. составлен под диктовку царя в интересах рядовых и мелких помещиков. Вместе с тем иерархи и монастыри сдавали свои позиции после упорного сопротивления. Показателем подобного сопротивления является запрет выкупа завещанных монастырям земель. Сломить духовенство помогло то, что интересы различных групп в церковной среде не совпадали: под давлением воинского чина иерархи заняли явно противомонастырскую позицию и провели постановления как будто направленные на все духовенство, но в действительности — против монастырей. Историк полагал, что ровно через год, в январе 1581 г. Приговор был еще раз подтвержден Освященным собором, царем и боярами 55 .
Мероприятием, направленным против монастырей, считал решения собора 1580 г. В.И. Корецкий. Правительству помогло белое духовенство и иерархи, не заинтересованные в дальнейшем увеличении земельных богатств обителей. Монахи шли на уступки крайне неохотно, «выторговывая» себе компенсацию в виде запрета на выкуп вотчин. Недовольство черного духовенства было столь велико, что через год Приговор был подтвержден с некоторыми ограничениями в пользу монастырей 56 .
По мнению А.А. Зимина, острие Приговора было направлено против вотчинников, которые продолжали отдавать земли в монастыри, то есть против опальных вотчинников, которые стремились избежать конфискации своих владений государем и обеспечить жизнь своей семьи под покровительством обители. Следовательно, эти постановления были направлены против тех землевладельцев, которые испытали на себе основной удар репрессий, они находились в тесной связи с общей политикой правительства, направленной на укрепление единого государства. По отношению же к монастырям эти постановления не были последовательны, правительству пришлось пойти на значительные уступки. Исследователь имеет в виду запрет выкупа и возможность приобретения новых земель после челобитья царю57. В более поздней работе А.А. Зимин отметил двойственный характер Приговора: с одной стороны, санкционировалась неприкосновенность монастырских земель, а с другой — запрещалось пополнять их фонд. Решения 1580 г. легли в основу практической деятельности правительства, связанной с монастырским землевладением. В перспективе Приговор отвечал интересам дворянского землевладения и казны, однако результаты должны были сказаться через продолжительное время58.
Б.Н. Флоря обратил внимание на публицистичность введения Приговора 1580 г. Сделано это было с целью убедить дворян в том, что вина заих тяжелое положение ложится на духовенство, а правительство стремится им помочь. Но в реальности решения не облегчали положения детей боярских, так как содержали запрет выкупа земель. Разделы же о княжеских вотчинах были сформулированы нечетко: проведение конфискаций и выкупа владений казной фактически не применялись. Забота о воинстве, провозглашенная во вступлении, оказалась, в основном, демагогией 59 .
Р.Г. Скрынникову удалось убедительно показать, что в начале 80-х гг. существовал один Приговор о монастырском землевладении, а именно 1580 г. Мнение исследователей о том, что ровно через год решения Освященного собора были еще раз подтверждены (о чем писали С.Б. Веселовский и В.И. Корецкий), связано с существованием испорченной и сокращенной копии Приговора 1580 г. Ученый считает, что документ подтвердил и детализировал нормы 1572 г. с запрещением земельных вкладов в монастыри и запретом выкупа. Уступки Церкви носили в Приговоре формальный характер, они ограждали церковное землевладение от покушений частных лиц, но не казны. Доказательством этого, по мнению Р.Г. Скрынникова, являются положения о княжеских вотчинах и закладных землях. Духовенство вынуждено было предоставить правительству неограниченную возможность изымать (с выкупом или без такового) бывшие владения княжат, причем независимо от времени их перехода к мона- стырям. Антимонастырское законодательство, в конечном итоге, принесло выгоду не только казне, но и поместному дворянству60.
Л.В. Черепнин сомневается в том, что Приговор написан под диктовку царя и полагает, что принятие решений сопровождалось конфликтами среди участников заседания 61 . Для Т.Е. Новицкой основная цель законодательства 1580 г. — вернуть царю поддержку дворянства, разоренного войной и внутренней политикой Ивана Грозного, так как именно дворянству должны были передаваться земли, изъятые у монастырей. Однако на практике Приговор почти не применялся, в чем виноват государственный аппарат, расшатанный опричниной и войной 62 .
Е.И. Колычева обратила внимание на то, что постановления собора 1580 г. не подписала значительная группа «церковных феодалов». Среди них три епископа и настоятели северных малоземельных монастырей. Этот факт свидетельствует, по мнению исследовательницы, о существовании серьезной оппозиции правительственному проекту. Царю не удалось провести решение об отмене тарханов, уступки же духовенства были не очень значительны. Е.И. Колычева не согласна с Р.Г. Скрынниковым в том, что все бывшие княжеские вотчины могли быть изъяты у монастырей, скорее всего в Приговоре речь идет лишь о недавних приобретениях. К тому же общая доля княжеских и закладных земель в общем фонде монастырей была не столь велика 63 .
А.И. Копанев считает, что текст Приговора готовили светские лица, то есть правительство Ивана Грозного. По вопросам церковного землевладения шла ожесточенная борьба, представление о которой дают мемуары Дж. Горсея. Духовенству удалось отстоять неприкосновенность основных земельных владений, но монастыри могли лишиться бывших княжеских и закладных вотчин. Решения собора отвечали, скорее всего, интересам дворянства, так как поступившие в казну земли шли в поместную раздачу 64 .
Таковы основные мнения исследователей. По нашему мнению, говорить о направленности Приговора можно лишь рассмотрев его основные положения и сравнив с предыдущим законодательством. Решениями 1572 г. запрещалось давать земли в крупные монастыри, теперь же подобный запрет был распространен на все духовенство. И там, и здесь запрещено выкупать вотчины у обителей, однако в 1580 г. запрет выкупа распространяется на земли, даже не «утвержденные крепостми», то есть права на владение которыми не оформлены в надлежащем порядке. Видимо, это было выгодно монастырям. Согласно Приговору 1572 г., в малые монастыри можно было принимать вклады лишь с разрешения царя и боярского приговора, участие представителей духовенства не предусматривалось, теперь же вопрос о наделении мелких обителей землей будет решаться «соборне» при участии митрополита, что явно выгодно представителям Церкви.
Закладные земли должны были, согласно решениям 1580 г., отойти государю, причем за известную компенсацию, размер которой оставлен на усмотрение царя. Р.Г. Скрынников уделяет большое внимание этому разделу Приговора, считая, что «фонд земель, перешедших к церкви по закладным, был, по-видимому, достаточно обширен» 65 . Однако доказательств своего мнения исследователь не приводит. Но даже такой крупный монастырь, как Троице-Сергиев, за 30 лет увеличил свои земельные богатства с помощью заклада всего на три владения — менее 2 % от общего количества своих приобретений 66 . Таким образом, закладные земли, видимо, не составляли сколько-нибудь значительного процента во владениях черного духовенства. К тому же, эти земли конфисковались за выкуп, размер которого едва ли мог быть меньше, чем сумма, затраченная монастырем.
Вопрос о бывших княжеских вотчинах также требует специального рассмотрения. По мнению Р.Г. Скрынникова, закон 1580 г. предусматривал возможность отчуждения всех княжеских вотчин, когда бы то ни было перешедших в распоряжение духовенства67. Однако более верным представляется мнение Е.И. Колычевой, указавшей, что постановление было направлено на сравнительно недавние приобретения68. Скорее всего, здесь имеются в виду те владе- ния, которые перешли монастырям от князей в обход законов второй половины XVI в., причем за купли предусматривалась компенсация, а судьба княжеских вкладов решалась царем. При этом из текста Приговора совершенно не вытекает, что эти земли будут непременно отписаны в пользу казны69.
Таким образом, по нашему мнению, Приговор 1580 г. нельзя назвать антимонастырской акцией правительства. Это фиксация сложившегося положения с церковным землевладением. Некоторые пункты Приговора были очень выгодны монастырям. Отчуждение владений в большинстве случаев предусматривается с денежной компенсацией, что в условиях экономического кризиса, видимо, вполне устраивало духовенство. Конфискация без выкупа бывших княжеских земель оставлялась на усмотрение Ивана Грозного и доказательств того, что это право широко применялось, мы не имеем. Скорее всего, забрать вотчину — вклад по душе без выкупа — было слишком сложно даже для царя, поскольку это означало лишить душу завещателя помощи и поддержки. Выплачивать же деньги за земли из казны в широких масштабах было едва ли возможно.
Яркая публицистичность введения Приговора определялась, видимо, стремлением правительства показать свою заботу о служилых людях, а не реальным содержанием законодательства. Может быть, именно из-за введения, а не из-за основного содержания документа часть представителей духовенства не поставили свои подписи под Приговором. Значение этого документа — в его направленности на будущее, а не в удовлетворении сиюминутных потребностей государственной казны и детей боярских. Вместе с тем, и после 1580 г. владения духовенства продолжали увеличиваться, хотя и в гораздо меньших масшта-бах 70 .
Приговор 1580 г. фактически ничего не дал государственной казне и никак не облегчил положение служилых людей. Е.И. Колычева предположила, что первоначально правительство на Соборе хотело добиться отмены тарханов, что дало бы в руки царя значительные денежные средства, но позиция духовенства не позволила Ивану Грозному осуществить задуманное71. Следует признать, что нет доказательств подобных намерений у руководства страны. Мы можем опи- раться лишь на бесспорно установленные факты. Очевидно следующее: в начале 80-х гг. было принято решение о денежных сборах в том числе и с отарханен-ных земель монастырей. В.И. Корецкий обратил внимание на то, что Иосифов и Кириллов монастыри внесли в государственную казну значительные денежные суммы. Исследователь думает, что можно говорить о налоге, введенном в действие с 1581 г. и о серьезном нарушении тарханных привилегий с этого вре-мени72. Таково же мнение и большинства других историков73.
Е.И. Колычева в своем исследовании высказала предположение, что в действительности начало 80-х гг. ознаменовалось не ограничением тарханов, а их отменой не позднее 1581 г. царским распоряжением в качестве чрезвычайной временной меры. С этого года правительство собирает основные налоги с ранее отарханенных земель. Соборно это решение было подтверждено уже после смерти Ивана Грозного — в 1584 г. 74 Как бы то ни было, бесспорно одно: с 1581 г. власти собирают налоги с земель духовенства, в том числе и с тех, которые имели налоговые льготы-тарханы.
Можно отметить, что проблемы церковно-монастырского землевладения были в центре внимания Ивана IV с середины XVI в. К этому времени окончательно сложилась практика земельных вкладов «по душе» и возобладало мнение о том, что отчуждение подобных вкладов является недопустимым. Это было отмечено в постановлениях Стоглавого собора 1551 г. Однако правительство стремилось поставить под контроль рост монастырского землевладения, чем и были вызваны ограничительные меры, которые были рассмотрены выше. Одновременно в самом начале 50-х гг. были фактически отменены тарханы. Экономический кризис и бурные события второй половины правления Ивана Грозного привели, с одной стороны, к быстрому росту монастырского землевладения, а с другой — к возобновлению практики предоставления духовным корпорациям широких налоговых льгот 75 . Во многом это было связанно с «делом» митрополита Филиппа (Колычева) и внутриполитической борьбой.
Попытка остановить рост церковных недвижимых имуществ, предпринятая в 1572 г., не привела к значительным результатам. Только Приговор 1580 г. резко сократил рост монастырских владений. С начала 80-х гг. с церковных земель, имеющих налоговые льготы, начинают собирать налоги. Официально подобная практика была узаконена уже после смерти Ивана Грозного, летом 1584 г.
В проведении ограничительной политики правительству помогло наличие определенных противоречий среди самого духовенства. Епископы не были особо заинтересованы в росте церковных владений, так как основные доходы получали от суда и управления. Кроме того, основной поток земельных вкладов «по душе» шел монастырям, а не владыкам. Используя их незаинтересованность, Иван IV и его правительство и могли проводить ограничительные меры, которые, впрочем, имели компромиссный характер, так как, несмотря на них, за долгое правление первого русского царя церковно-монастырское землевладение сильно увеличилось и, в конечном итоге, имеющиеся к 1580 г. земли остались за Церковью.
Список литературы Приговоры о церковно-монастырском землевладении в период правления Ивана Грозного
- Законодательные акты Русского государства второй половины XVI -первой половины XVII в. Тексты. Л., 1986. № 36
- Русский феодальный архив XIV -первой трети XVI вв. Вып. 4. М., 1988
- Стоглав//Российское законодательство. Т. 2. М., 1985
- Судебник 1550 года//Российское законодательство. Т. 2. М., 1985
- Алексеев А.И. Под знаком конца времен. Очерки русской религиозностиконца XIV -начала XVI вв. СПб., 2002
- Алексеев Ю.Г. Аграрная и социальная история Северо-Восточной РусиXV-XVI вв. Переяславский уезд. М.; Л., 1966
- Бахрушин С.В. Иван Грозный//Бахрушин С.В. Научные труды. Т. 2. М.,1954
- Будовниц И.У. Русская публицистика XVI века. М.; Л., 1947
- Вернадский Г.В. Московское царство. Т. 1. Тверь, М., 1997
- Веселовский С.Б. Монастырское землевладение в Московской Русиво второй половине XVI века//Исторические записки. 1941. № 10 С. 101-114
- Веселовский С.Б. Феодальное землевладение в Северо-Восточной Руси Т. 1. М.; Л., 1947
- Горсей Дж. Записки о России. XVI -начало XVII в. М., 1990
- Емченко Е.Б. Стоглав: Исследование и текст. М., 2000
- Зимин А.А. В канун грозных потрясений. М., 1986
- Зимин А.А. Крупная феодальная вотчина и социально-политическая борьба в России (конец XV-XVI в.). М., 1977
- Зимин А.А. Опричнина Ивана Грозного. М., 1964
- Казакова Н.А. Нестяжательство и ереси//Вопросы научного атеизма Вып. 25. М., 1980. С. 62-79
- Карташев А.В. Очерки по истории Русской Церкви. Т. 1. М., 1991
- Каштанов С.М. Финансы средневековой Руси. М., 1988
- Кобрин В.Б. Власть и собственность в средневековой России. М., 1985
- Колычева Е.И. Аграрный строй России XVI века. М., 1987
- Копанев А.И. История землевладения Белозерского края XV-XVI вв М.; Л., 1951
- Корецкий В.И. Закрепощение крестьян и классовая борьба в России вовторой половине XVI в. М., 1970
- Макарий (Булгаков), митр. История Русской Церкви. Кн. 4. Ч. 2 М., 1996
- Моисеева Г.Н. «Валаамская беседа» -памятник русской публицистикисередины XVI в. М.; Л., 1958
- Носов Н.Е. Становление сословно-представительных учреждений в России. Изыскание о земской реформе Ивана Грозного. Л., 1969
- Плигузов А.И. Полемика в Русской Церкви ервой трети XVI столетия. М.,2002
- Поссевино А. Исторические сочинения о России XVI в. М., 1983
- Романов Б.А. К вопросу о земельной политике «Избранной рады»//Исторические записки. 1951. № 38. С. 265-266
- Рождественский С.В. Служилое землевладение в Московском государстве XVI века. СПб., 1897
- Садиков П.А. Очерки по истории опричнины. М.; Л., 1950
- Синицына Н.В. Нестяжательство и Русская Православная ЦерковьXIV-XVI вв.//Религии мира. История и современность/Ежегодник. М.,1983. С. 76-101
- Скрынников Р.Г. Государство и Церковь на Руси в XIV-XVI вв. Подвижники Русской Церкви. Новосибирск, 1991
- Скрынников Р.Г. Начало опричнины. Л., 1966
- Скрынников Р.Г. Россия после опричнины. Л., 1975
- Скрынников Р.Г. Царство террора. СПб., 1992
- Смирнов И.И. Иван Грозный. Л., 1944
- Смирнов И.И. Очерки политической истории Русского государства30-50-х гг. XVI в. М.; Л., 1958
- Смирнов П.П. Посадские люди и их классовая борьба до серединыХVII века. М.; Л., 1947
- Флетчер Дж. О государстве Русском//Проезжая по Московии. М., 1991
- Флоря Б.Н. Война между Россией и Речью Посполитой на заключительном этапе Ливонской войны и внутренняя политика правительства Ивана IV//Вопросы историографии и источниковедения славяно-германскихотношений. М., 1973. С. 184-187
- Черепнин Л.В. Земские соборы Русского государства в XVI-XVII вв. М.,1978
- Христианское чтение №3, 2012Приговоры о церковно-монастырском землевладении43. Черкасова М.С. Землевладение Троице-Сергиева монастыря вXV-XVI вв. М., 1996
- Шапошник В.В. Иван Грозный. Первый русский царь. СПб., 2006
- Шапошник В.В. Церковно-государственные отношения в России в30-80-е годы XVI века. СПб., 2006
- Шмидт С.О. Становление российского самодержавства. М., 1973
- Юрганов А.Л. Категории русской средневековой культуры. М., 1998