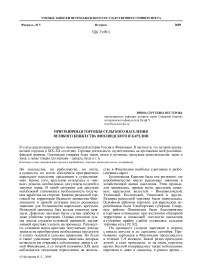Приграничная торговля сельского населения Великого княжества Финляндского и Восточной Карелии
Автор: Нестерова Ирина Сергеевна
Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu
Рубрика: История
Статья в выпуске: 5 (98), 2009 года.
Бесплатный доступ
В статье рассмотрены вопросы экономической истории России и Финляндии. В частности, это история приграничной торговли в XIX-XX столетиях. Торговая деятельность осуществлялась на протяжении всей российско-финской границы. Основными товарами были ткани, нитки и пуговицы, продукция животноводства, зерно и мука, а также товары для женщин - зеркала, бусы и т. п.
Приграничная торговля, коробейники, торговое законодательство, контрабанда
Короткий адрес: https://sciup.org/14749538
IDR: 14749538 | УДК: 33(091)
Текст научной статьи Приграничная торговля сельского населения Великого княжества Финляндского и Восточной Карелии
Ни земледелие, ни рыболовство, ни охота, в сущности, не могли обеспечить приграничное карельское население средствами к существованию. Кроме того, крестьяне нуждались в «живых» деньгах, необходимых для уплаты податей и закупки зерна. В такой ситуации для крестьян неизбежной становилась необходимость получения заработка на стороне. Занятие разносной торговлей на территории Великого княжества Финляндского в данной ситуации имело решающее значение для большинства карельских крестьян. Разносной промысел был весьма опасным занятием. Довольно частыми были случаи грабежа и даже убийства торговцев. Однако неплохие суммы дохода служили основной причиной, заставлявшей крестьян уходить на промысел. Разумеется, основная масса крестьян получаемые доходы тратила на приобретение необходимых продуктов и уплату податей в сельское правление. Но были и такие удачливые торговцы, капиталы которых позволяли им открывать собственные лавки в самой Финляндии, а со второй половины XIX века наблюдается тенденция переселения на житель
ство в Финляндию наиболее удачливых и разбогатевших карел.
Беломорская Карелия была тем регионом, где коробейничество имело решающее значение в хозяйственной жизни населения. Этим промыслом занимались, прежде всего, крестьяне западных карельских волостей – Вокнаволокской, Ухтинской, Кестенгской, Олангской и других. Размеры разносной торговли были значительны. Основным районом торговли для карельских коробейников была Улеаборгская губерния. Северные районы Финляндии были благоприятны в торговом отношении: при достаточно обширной территории и невысокой плотности населения в губернии крайне слабой оставалась сельская торговая сеть [19; 82].
На промысел уходили партиями в период с начала августа и до середины сентября. Пребывание торговцев в Финляндии продолжалось в течение 7–9 месяцев. Зимой редко приходили домой, а если приходили, то на очень короткое время. Весной возвращались также небольшими партиями и даже в одиночку, в разное время – начиная с первых чисел марта и до Петрова дня. Уход и приход совпадал с более теплым временем, когда санный путь еще или уже не существовал. Настоящих дорог, по которым можно было ездить на лошадях летом, не существовало. Путями передвижения служили тропы, а в зимний период очень распространенным был способ передвижения на лыжах [27; 562–563].
По российскому законодательству, лица, занимавшиеся разносной торговлей, получали плакатные паспорта в уездных казначействах, куда волостные правления представляли поименные списки. Для торговли вразнос следовало получить свидетельство у начальника той губернии, где они собирались заниматься торговлей, предоставив заранее свидетельства о беспорочном поведении, о праве владения своим имуществом и медицинское свидетельство [13].
Проситель был обязан внести в губернское казначейство годовой взнос – не менее 25 и не более 100 марок. С дохода от промысла торговец уплачивал налог общине, в которой он числился проживающим, или же, если у него не было определенного места жительства, – той общине, в которой он преимущественно пребывал. Торговлю вразнос одно и то же лицо могло производить только в одной губернии. Свидетельством на торговлю не могло пользоваться другое лицо, также как нельзя было торговать и без свидетельства. Губернатор имел право лишить торговца права заниматься торговлей вразнос в случае нарушения этих постановлений или общих законов или же в случае ходатайства об этом общинного правления с приведением уважительных доводов [24; 1–2]. Непременным условием получения документа было разрешение мирского схода и обязательство своевременной уплаты податей [15; 254–255]. На деле же царила неразбериха в вопросе о том, какие документы должен иметь торговец для занятия промыслом в пределах Финляндии.
Зачастую требования властей разных губерний расходились: например, в Тавастгусской губернии, помимо всех прочих документов, требовалось еще и исповедное свидетельство от священника. От торгующих в пределах Куопиоской губернии коробейников губернское правление требовало медицинские свидетельства местных врачей, а без таковых разрешение на право торговли не выдавалось. «Таковые свидетельства законом не установлены, требуют лишних расходов, а местные врачи, следуя усиленной пропаганде о притеснении русских, отказывают в выдаче свидетельств» [8; 1–2, 19]. Возможно, отчасти этой неразберихой, а частично невозможностью уплаты необходимых податей объясняется столь малое количество выдаваемых свидетельств на отлучку. Большая часть крестьян уходила на промысел давно проложенными тайными тропами, не имея вообще никаких документов.
Губернаторы Финляндии, будучи не в силах что-либо предпринять, направляли жалобы в Сенат, затем эти бумаги шли генерал-губерна- тору Великого княжества, а далее – императору. В итоге разносная торговля крестьян Архангельской губернии в княжестве была запрещена предписанием Сената от 12 марта 1818 года. Александр I одобрил постановление и подписал запрет в 1820 году [17; 50–51]. Но что мог значить запрет на бумаге без сопутствующих ему практических мер? Тогда не было предпринято никаких шагов для улучшения существующих и учреждения новых таможенных пунктов.
Этот закон не имел решающего значения, и коробейники продолжали ежегодно уходить на промысел. Подтверждением этого факта может служить письмо генерал-губернатора Финляндии архангельскому губернатору от 1822 года, в котором выражалась просьба прекратить незаконную выдачу паспортов [18; 45]. Однако в связи с трудным экономическим положением края местные власти зачастую смотрели сквозь пальцы на предписания финляндского Сената, продолжая выдавать паспорта карельским крестьянам.
Императорским указом 18 января 1837 года был подтвержден запрет разносной торговли крестьян Архангельской губернии в пределах Финляндии [32; 30]. Таким образом, правительство попыталось ограничить ведение незаконной торговли.
В 1839 году вышло «Высочайшее Императорское объявление касательно отмены в некоторых частях постановления 1837 года», которое разрешало российским крестьянам посещать Финляндию наравне с другими губерниями империи . Основным документом для въезда в княжество и передвижения по его территории был паспорт [14; 167].
Крестьяне, задержанные на территории Великого княжества Финляндского за ведение незаконной торговли, судились в Ратгаузских судах, которые представляли собой нижнюю инстанцию судебной власти в городах, или в Гофгерихтах, являвшихся, по сути, высшими судами. Наказанием служила выплата денежного штрафа или заключение в тюрьму [1; 2]. Однако взыскать его с крестьян было очень непростым делом.
Часто карельские торговцы прятались от наказания, определенного им в Финляндии, в самой же Финляндии. Это обстоятельство, в свою очередь, обуславливало затягивание дела, переписка могла вестись в таком случае годами и не иметь решительно никакого результата. Крестьяне Кемского уезда Ефим Марков Андреев, Федор Богданов и Иван Корнилов были приговорены Там-мерфорским Ратгаузским судом к уплате штрафа в 27 рублей 83 копейки каждый или, в случае несостоятельности, к трехнедельному заключению в тюрьму. Однако Кемское уездное полицейское управление рапортовало о невозможности взыскания штрафа по причине того, что указанные лица из Финляндии на родину не возвращались [2; 1–11]. Среди выдвигаемых обвинений наиболее частыми были: «контрабанда», «торговля купеческими товарами», «бродяжничество» и т. д.
Источники, относящиеся к первой половине XIX столетия, не фиксируют массовых случаев контрабанды, но это вовсе не означает, что торговля велась по правилам. Вероятно, этот промысел как раз и процветал в данный период времени, но слабость таможенного дела в совокупности с издаваемыми указами и распоряжениями, сулящими за проступок все большую и большую степень материального наказания (сначала наложение штрафа, позднее штраф и конфискацию) мало что могли изменить на деле.
В первый раз штраф назначался в размере стоимости товара, во второй раз он повышался в 2 раза. Конфискованный же товар отправлялся в ближайший город для продажи с аукциона. В результате из вырученных за товар денег 2/3 получал поимщик, а 1/3 шла в казну [28]. Правда, между конфискацией и аукционом был еще один этап. В случае если хозяин был неизвестен, после конфискации товара и его описи в местную газету подавалось объявление о том, что хозяин товара может пожаловать за ним, чтобы получить обратно. Но это всегда означало, что он будет подвергнут суду, товар все равно будет конфискован, на него наложат штраф и обяжут оплатить все расходы, связанные с доставкой товара и его хранением. Именно поэтому карельские крестьяне, как правило, за арестованным товаром не являлись. Между конфискацией товара и аукционом должен был пройти срок в 1 год и 1 день, но зачастую и это условие не выполнялось. Поэтому, например, месяца через 4, когда хозяин товара все-таки решался его получить обратно, уже ничего нельзя было сделать. Товар был продан, и деньги поделены. При этом торговцу справедливо замечали, что ленсман, отбирая недозволенные товары и объявляя об этом в суд, исполняет свой долг, а бегство самого хозяина явно обнаруживает, что преступление совершено с умыслом. Кроме того, начать торговое дело заново в материальном плане было проще, чем пытаться вернуть то, что было отобрано, учитывая выплату штрафа и расходы на дорогу. И даже в случае получения товара, что случалось крайне редко, следовало заплатить компенсацию ленсману [4; 10–11].
14 января 1853 года Николаем I был издан указ, направленный на «предупреждение бродяжничества». Крестьянам Архангельской губернии при переходе через границу предписывалось отмечать паспорт у ленсмана ближайшего прихода, при посещении другого прихода вновь сделать отметку у ленсмана. По прибытии в город необходимо было делать в паспорте отметку у бургомистра [16; 316–318].
В 1859 году было издано положение о разрешении сельской торговли в Великом княжестве Финляндском. Согласно принятому закону, финляндский подданный – грамотный, умеющий читать, писать и знающий арифметику, состоятельный и имеющий доброе имя человек – имел законное право на открытие своего магазина. Последний должен был находиться не ближе 50 верст от города или торгового местечка. В лавке разрешалось торговать продуктами сельского хозяйства, изделиями промыслов и ремесел (различные пи- щевые товары, рыба, фрукты, соль, семена, масла, краски, мыло, духи, ткани и т. д.). Запрещалось держать яды, лекарства и любые алкогольные напитки, кроме финского пива, которое следовало продавать в закрытых бутылках [30; 95]. В 1861 году минимальное расстояние, на котором должен был находиться магазин от города, составляло 10 верст [35; 226]. Для основания магазина необходимо было получить разрешение от губернатора той губернии, где располагался магазин. Однако следует отметить довольно медленное развитие сети сельских магазинов. Кроме того, владельцу магазина следовало уплачивать ежегодный налог в сумме 80–160 марок [34; 15]. Карельские коробейники, не являясь финляндскими подданными, не имели права открывать свое дело. Кроме того, их деятельность на территории Финляндии вызывала недовольство городских купцов, буржуа, а также крестьян, не желавших иметь конкурентов. Конкуренция послужила причиной спада разносной торговли. Промысел стал терять свое былое значение, доходы коробейников уменьшались [22; 96].
Условия разносной торговли ухудшились после введения в действие закона 1859 года; в результате гонения на коробейников сопровождались конфискацией товаров, а задержавший торговца ленсман мог рассчитывать на треть конфискованного. Во избежание нежелательных встреч с местными властями коробейники были вынуждены обходить самые глухие и бедные деревни, где покупательский спрос населения был низким [21; 21].
Согласно указу о промыслах, одобренному Александром II в 1868 году, право на занятие торговлей имели только подданные Финляндии, умевшие писать и заполнять книгу счетов. Разрешалось продавать лишь товары финского производства [25]. Законодательное запрещение ведения торговли создало для карельского населения Кемского уезда, по сути, безвыходное положение. Финские власти при задержании торговцев-контрабандистов отбирали не только продаваемый товар, но и лошадь с упряжью. Возвращаясь домой без товара, без денег и главное без лошади, такой крестьянин был вынужден искать других заработков и зачастую, не найдя их, становился нищим бродягой [23; 32].
С падением товарооборотов ярмарок на Русском Севере коробейники перестали играть прежнюю роль посредников в торговых операциях. У них не было возможности заинтересовать покупателя продукцией ремесленно-кустарных промыслов из-за их неразвитости в северно-карельской деревне с ее патриархальными чертами и местным консерватизмом быта. Предметы одежды, перекупленные у финских торговцев вместе с прочей лавочной мелочью, представляли собой наиболее доступный товар для приобретения рядовыми и несостоятельными разносчиками [21; 20].
Некоторое уменьшение торговли с Финляндией зависело от ряда причин: обнищание карел в связи с неурожаем и уменьшением промыслов, вследствие чего произошло сокращение их денеж- ных средств, а также уменьшение числа капиталистов, которые многим предоставляли средства для торговли. Кроме того, карелы, занимающиеся разносной торговлей в Финляндии, преследовались таможенным начальством, поскольку торговали в подрыв местных торговцев [3; 11].
Новый указ о промыслах обсуждался Сеймом в 1877–1878 годах. Комиссия выступила за расширение ассортимента товаров, разрешенных к разносной торговле [29].
Вступивший в силу 31 марта 1879 года указ разрешал ведение торговли на основании открытого паспорта, полученного в губернской канцелярии и ежегодно возобновляемого. Разрешалась продажа сельских и промышленных изделий, фаянсовой и глиняной посуды, стекла и изделий из него. Дозволялась торговля и иностранцам, им необходимо было сделать запрос на имя губернатора, приложив к нему удостоверение о хорошем имени подателя, а также платежное поручительство об уплате казенных повинностей за три года [26].
Так в двадцатилетний период, с 1859 по 1879 год, в три этапа было осуществлено полное освобождение торговли. Закон 1859 года, разрешивший основание лавок в сельской местности, расширил географию ведения торговли. Затем закон о промыслах 1868 года полностью отменил разницу между торговцами в сельской местности и в городах, за одним только исключением – запрета на торговлю алкоголем сельскими торговцами. А законом 1879 года были окончательно отменены все ограничения, касающиеся занятий торговым промыслом [31; 191–195].
Начало ХХ века характеризуется гонениями на карельских коробейников. В некоторых финляндских общинах существовали целые уставы, как должно вести себя по отношению к разносным торговцам из Карелии. В 1899 году из 49 приходов Тавастгуской губернии 26 установили штрафы за скрывание странствующих лиц, занимающихся незаконной торговлей [7]. Общественный сход прихода Руовеси постановил: для поддержания в обществе хорошего порядка накладывать штраф в размере 40 марок на тех лиц, кто будет «покровительствовать шляющимся торговцам-крестьянам из Архангельской и Олонецкой губернии Российской империи». В подкрепление этому решению была издана брошюра тиражом в 3000 экземпляров под названием «Правила общины Руовеси к поддержанию порядка и спокойствия» [10].
Однажды дело дошло даже до суда. Торпарь Гладе посмел ослушаться распоряжения не впускать коробейников на ночлег, за что был приговорен к лишению торпы и необходимости выехать оттуда [11]. За поимку незаконных торговцев устанавливались денежные премии, причем деньги для этой цели брались из сумм, предназначенных для истребления вредных животных [5].
Подобные нападки на карельских коробейников со стороны финляндцев были связаны, прежде всего, со слухами о предстоящем переделе земли. Торговцы обвинялись в том, что со- бирали подписи под подобными бумагами, обращаясь «преимущественно к детям и мало смыслящим лицам» и употребляли для этой цели ласки, подарки и даже угрозы. Однако ни один русский торговец не был задержан за подобные действия [6]. Зачастую слухи о земельном переделе распускали сами жители Финляндии. Почти треть населения составляли безземельные крестьяне, мечты которых подпитывались слухами о переделе земли. Коробейники же лишь использовали подходящие слухи, говоря то, что людям нравилось, о чем они с удовольствием хотели слышать [33; 182–186].
«Русским торговцам нужно помочь, – писал Н. И. Бобриков статс-секретарю Великого княжества Финляндского В. К. Плеве 12 ноября 1899 года, – и в этих видах я хочу войти к вам с особым ходатайством». Чтобы облегчить участь гонимых, надо было пересмотреть местный сеймовый закон о промыслах. Дело грозило затянуться, поэтому Н. И. Бобриков настаивал на издании временного положения о правах крестьян-торговцев. В начале марта 1900 года Н. И. Бобриков писал В. К. Плеве: «У меня на совести лежит вопрос о предоставлении права русским торговцам продавать русские изделия. Ведь финляндцы свободно у нас торгуют и не терпят притеснений, испытываемых нашими коробейниками в Финляндии» [20; 110–111].
В апреле 1899 года слухи о переделе земли начали стихать и почти совсем прекратились в мае, когда коробейники покинули Финляндию. Частично это произошло под давлением финляндских чиновников, частично по той причине, что те коробейники, которые были связаны с земледелием, поспешили в родные места на весенние полевые работы, чтобы осенью снова вернуться к коробейничеству. Осенью ситуация уже успела успокоиться, и весенний «сезон слухов» 1899 года больше не повторялся в прежних масштабах [33; 185–186].
Летом 1899 года крестьяне Ухты, Вокнаволо-ка и Кестеньги составили прошение генерал-губернатору Великого княжества Финляндского Н. И. Бобрикову с целью узаконить коробейный промысел как единственный, дающий средства к существованию. Только 2 июля 1900 года вышел указ, уравнивавший в правах ведения торговли в княжестве российских и финских крестьян. Однако закон этот не разрешил всех проблем. С одной стороны, коробейники как подданные России имели теперь право на торговлю, а с другой, по указу о промыслах 1859 года, – запрет на сельскую торговлю оставался в силе [18; 49]. Таким «скользким» положением коробейников и было обусловлено двойственное к ним отношение в начале ХХ столетия как со стороны финских властей, так и местного сельского населения.
8 августа 1900 года генерал-губернатор Финляндии разослал всем финляндским губернаторам распоряжение, предписывающее, что русские торговцы могут заниматься в Финляндии торговлей вразнос и промыслами на тех же основаниях, что и финляндские граждане. Губернаторы были обязаны выдавать русским крестьянам разрешения на торговлю при тех же условиях, при которых это разрешение ими выдавалось финляндским гражданам или вообще местным сельским обывателям. В случае, когда ходатайство русского крестьянина на торговлю не могло быть удовлетворено, каждый раз следовало немедленно доносить об этом генерал-губернатору с указанием подробных причин отказа. Однако из-за незнания закона и коробейниками, и самими местными властями часто возникала путаница. Торговцы прибывали в Финляндию с паспортами, выданными волостными правлениями, свидетельством о благонадежности и иногда промысловым свидетельством, а местные власти требовали от них паспорта, выданные губернаторами; другие требовали отметки в графе «род занятий» – не «чернорабочий», как значилось у большинства, а «торговец»; третьи – особого свидетельства русского губернатора на право торговли. В ноябре того же года Н. И. Бобриковым были даны следующие указания: поскольку паспорта на отхожий промысел с надписью губернатора выдаются только лицам благонадежного поведения, то не следует требовать от коробейников предъявления особых свидетельств о благонадежности. Кроме того, запрещалось требовать от торговцев перевода предъявляемых ими бумаг с русского на местные языки. Полиции же вменялось в обязанность строже следить, чтобы коробейникам «не чинилось никаких препятствий по выдаче открытых листов на право торговли» [12].
Несмотря на распоряжение Н. И. Бобрикова о праве торговли карельских коробейников в Великом княжестве Финляндском, случаи отказа местными губернаторами лишь участились. Доводы приводились самые разные. В ноябре 1900 года крестьяне Архангельской губернии Кемского уезда Кестенгской волости Александр Иванов, Тимофей Карвариндин и Фома Карвариндин подали прошение на имя Улеаборгского губернатора с просьбой о выдаче разрешения на право торговли. В установленном порядке они предъявили свои паспорта и свидетельства архангельского губернатора о том, что со своей стороны он не встречает препятствий на производство указанными крестьянами разносной торговли в пределах Великого княжества Финляндского. В губернской канцелярии у них забрали документы и велели прийти на другой день, затем потребовали заплатить по 9 марок с каждого за перевод свидетельств, которые по закону должны были переводиться без всякой платы. Однако крестьяне, не желая терять времени, согласились на это условие и заплатили названную сумму. Но и после этого им отказали в ведении торговли, ссылаясь на молодость просителей (им было по 19 лет). И только в марте следующего года, после подачи жалобы на имя директора Канцелярии финляндского генерал-губернатора, они добились распоряжения о вручении документов на ведение разносной торговли [9].
Полиция, сельская администрация и помещики проявили немало жестокости, отказывая коробейникам в ночлеге, пище и т. д. У них отнимали товары, штрафовали, сажали в тюрьмы, подвергали побоям и даже наложению оков. Гонение было затеяно из желания избавиться от единственных русских свидетелей своей предосудительной деятельности среди населения в самых глухих уголках Финляндии. Однако было трудно поднять финский народ против неповинных торговцев, с которыми у него в течение столетий установились хорошие отношения [20; 110–111].
В 1905 году Николай II обратился в финляндский Сенат с проектом, по которому разрешалось передвижение на селе торговцев с товарами при условии наличия специального разрешения губернатора, возобновляемого ежегодно. В канцелярию разносчик должен был представить чек об уплате налога и документ о врачебном освидетельствовании. Паспорт и медицинскую справку предписывалось предъявлять местным властям по первому требованию. Проект обсуждался в Сейме и с небольшими изменениями был одобрен. Для каждой губернии Финляндии, где велась торговля, необходимо было получать новое разрешение, а для уплаты коммунального налога иностранцу предписывалось оставлять гарантийную сумму или какое-либо другое подтверждение. Медицинская справка возобновлялась раз в полгода, а плата за паспорт возрастала до 100 марок. Однако проект, одобренный Сеймом, не был подписан Николаем II. Новый закон, вынесенный на обсуждение Сейма, был практически идентичен прежнему. Из текста только было изъято требование получения медицинской справки. Но и этот законопроект не был одобрен Николаем II. С осени 1908 года в Сенате готовилось сразу два законопроекта, но работа затянулась до начала Первой мировой войны. Закон о предоставлении российским гражданам тех же прав на занятие торговлей и промыслами в Финляндии, что и финнам, был принят только в мае 1917 года [18; 50]. Однако и в военный период промысел продолжал процветать. Этому значительно способствовало то, что пограничная стража на время военных действий была вовсе отозвана, вероятно, в другое, более важное место.
Итак, на протяжении всего XIX и начала ХХ века юридический статус карельских коробейников оставался неопределенным. Запреты на ведение торговли в Великом княжестве Финляндском следовали один за другим, причем зачастую введение нового положения вовсе не означало отмену ранее действующего. Однако их размывчатые формулировки были скорее выгодны самим коробейникам. Ситуация, при которой не было точности в определении того, кто мог заниматься торговлей, в совокупности со слабостью надзора и контроля со стороны таможенных структур создавала широкий простор ведению торговых операций. Люди пользовались такой возможностью в большинстве своем совсем не для того, чтобы нажить себе значительные богатства, а главным образом для того, чтобы прокормить себя и свою семью и внести все необходимые подати.
За ведение незаконной разносной торговли карельских коробейников судили в финляндских судах. Наказание за провинность могло составлять штраф в виде нескольких десятков или сот талеров и доходить до тюремного заключения, иногда на срок до года и более. Однако получаемые от промысла прибыли обуславливали его развитие. Потерять все и начать дело заново было проще, чем каждый раз заниматься оформлением необходимых бумаг. Уследить за появлением все новых и новых постановлений в деле оформления бумаг простому крестьянину было не под силу. В процессе оформления необходимых бумаг всплывали все новые требования со стороны финских властей. В такой ситуации не каждый торговец доводил дело до конца, не желая терять деньги, а глав- ное время. На промысел уходили давно проложенными тропами, без всяких на то документов.
Отношение финской стороны к карельским торговцам-разносчикам было двояким. Местное население очень охотно пользовалось услугами карельских коробейников. Всячески помогая торговцам, финские крестьяне сами зачастую оказывались наказанными за неисполнение постановлений властей. Местная администрация стремилась искоренить занятие разносным промыслом в пределах Великого княжества Финляндского. Обвиняя карельских торговцев в завышенных ценах на товары и даже в распространении заразных болезней, финские власти стремились не допустить конкуренции сельским торговцам. Однако коробейная торговля к этому времени имела силу традиции, и никакие законы не могли создать препятствий для ее дальнейшего существования и развития.
Список литературы Приграничная торговля сельского населения Великого княжества Финляндского и Восточной Карелии
- Базегский Д.В. Законодательство России и Финляндии о карельском коробейничестве в XIX -начале ХХ в.//Вопросы истории Европейского Севера. Петрозаводск, 1993. С. 43-51.
- Базегский Д.В. Экономические связи Беломорской Карелии и Северной Финляндии (Кайнуу) во второй половине XIX -начале ХХ в. Петрозаводск, 1998. 173 с.
- Бородкин М.М. Из новейшей истории Финляндии. Время управления Н. И. Бобрикова. СПб., 1905. 481 с.
- Дубровская Е.Ю. Социально-экономическое положение карельских уездов в конце XIX -начале ХХ в. Петрозаводск: КарНЦ РАН, 1989. 24 с.
- Жербин А.С. Карельские коробейники в Финляндии в XIX в.//Тезисы докладов V Всесоюзной конференции по изучению истории, языка и литературы Скандинавских стран и Финляндии. Т. 1. Ч. 1. М., 1971. С. 65-68.
- Нефедова Г.А. Торговля Карелии после отмены крепостного права в России//Ученые записки Карельского педагогического института. Т. IX. Петрозаводск, 1960. С. 27-34.
- Проект правил для торговли вразнос//Финляндская газета. 1906. 10/23 июня. С. 1-2.
- Сборник постановлений Великого княжества Финляндского за 1868 г. № 7. Гельсингфорс, 1868-1869. 426 с.
- Сборник постановлений Великого Княжества Финляндского за 1879 г. № 12. Гельсингфорс, 1879-1880. 346 с.
- Сношения архангельских карел с Финляндией//Известия Архангельского Общества Изучения Русского Севера. 1911. № 7. С. 561-564.
- Собрание постановлений финляндских. Узаконения, обнародованные на русском языке: с дополнением. СПб.: Государственная типография, 1902. Т. 1. № 158, 159.
- Asiokirjoja valtiopäiviltä v. 1877-1878. Osa 2. Helsinki, 1878.
- Joustela. Suomen Venäjän -kauppa autonomian ajan alkupuoliskolla vv. 1809-1865. Historiallisia tutkimuksia LXII. Lahti, 1963. 436 s.
- Mauranen T. Porvarista kauppiaaksi -kauppiaan yhteiskunnallinen asema 1800-luvun jälkipuoliskolla//Historiallinen arkisto. 76. Helsinki, 1981. S. 185-212.
- Nakka-Korhonen M. Halpa hinta -pitkä mitta. Vienankarjalainen laukkukauppa. Helsinki, 1988. 294 s.
- Rasila V. Suomen torpparikysymys vuoteen 1909/Historiallisia tutkimuksia. LIX. Kajaani, 1961. 493 s.
- Suomen virallinen tilasto. II. Yhteenveto kuvernöörin viisivuotis-kertomuksista vuosilta 1861-1865. Helsinki, 1868. 140 s.
- Vahtola J. Suomen historia. Jääkaudesta Europan unioniin. Keuruu, 2004. 495 s.