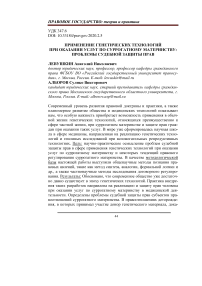Применение генетических технологий при оказании услуг по суррогатному материнству: проблемы судебной защиты прав
Автор: Левушкин Анатолий Николаевич, Алборов Сулико Викторович
Журнал: Правовое государство: теория и практика @pravgos
Рубрика: Колонка главного редактора
Статья в выпуске: 2 (60), 2020 года.
Бесплатный доступ
Современный уровень развития правовой доктрины и практики, а также планомерное развитие общества и медицинских технологий показывает нам, что особую важность приобретает возможность применения в обычной жизни генетических технологий, относящихся преимущественно к сфере частной жизни, при суррогатном материнстве и защите прав граждан при оказании таких услуг. В мире уже сформировалась научная школа в сфере медицины, направленная на реализацию генетических технологий и геномных исследований при вспомогательных репродуктивных технологиях. Цель: научно-практическое осмысление проблем судебной защиты прав в сфере применения генетических технологий при оказании услуг по суррогатному материнству и некоторых тенденций правового регулирования суррогатного материнства. В качестве методологической базы настоящей работы выступили общенаучные методы познания правовых явлений, такие как метод синтеза, аналогии, формальной логики и др., а также частнонаучные методы исследования договорного регулирования. Результаты: Обосновано, что современное общество уже достаточно давно существует в эпоху генетических технологий. Практика внедрения таких разработок направлена на реализацию и защиту прав человека при оказании услуг по суррогатному материнству в медицинской деятельности. Определены проблемы судебной защиты прав субъектов правоотношений суррогатного материнства. В правоотношениях деторождения, в которых принимал участие донор генетического материала, доказана необходимость защиты прав данного лица, когда ему вменяют обязанности родителя, хотя его действия не преследовали целью рождение ребенка в своем интересе.
Права граждан, генетические технологии, гены, медицинская деятельность, донор, вспомогательные репродуктивные технологии, суррогатное материнство, проблемы судебной защиты
Короткий адрес: https://sciup.org/142234054
IDR: 142234054 | УДК: 347.6
Текст научной статьи Применение генетических технологий при оказании услуг по суррогатному материнству: проблемы судебной защиты прав
Публикация подготовлена при финансовой поддержке РФФИ в рамках проведения научно-исследовательских работ 18-29-14063/19 по теме «Правовое регулирование геномных исследований и внедрение их результатов в медицинской практике»
В современной правовой доктрине и практике внедрения новейших медицинских разработок все более активное применение находят генные разработки и генетические технологии, они претворяются в жизнь как практические эксперименты, имеющие медицинский и социальноправовой характер. Данные научно-практические направления имеют своей первостепенной задачей внедрение разнообразных генетических технологий в правовую действительность и медицинскую практику, в том числе при применении технологий суррогатного материнства.
Право на охрану здоровья населения нашей страны закреплено в положениях Конституции Российской Федерации 1 . Указанное конституционное положение имеет основополагающее значение, соответственно, на развитие данной нормы направлены соответствующие законодательные акты с целью обеспечения и защиты здоровья населения нашей страны и развития геномных технологий, генной инженерии и биомедицины, их активного внедрения в медицинскую практику. Представляется, что особенно большое количество проблем возникает в вопросе допустимости включения генетических технологий в гражданский оборот и медицинскую практику при оказании услуг по суррогатному материнству.
Население, которое в силу каких-либо объективных причин нуждается в получении медицинской помощи, является главным участником любых правоотношений в сфере предоставления медицинских услуг. Полагаем, должное качество медицинской помощи подразумевает под собой использование необходимых технологий и методологий, а также необходимую организацию и финансовую поддержку всей медицинской помощи, которые в конечном счете направлены на обеспечение благоприятных условий для реализации прав граждан в сфере вспомогательных репродуктивных технологий и суррогатного материнства.
Провозглашенная на разных уровнях правового воздействия охрана прав и законных интересов граждан является объективной необходимостью при оказании медицинских услуг. Конституция Российской Федерации направлена на обеспечение реализации прав граждан в сфере семьи и семейных отношений, доступности и реальной возможности на продолжение своего рода посредством рождения ребенка, однако последнее названное конституционно-правовое содержание прав граждан в Конституции должным образом не определено, а является следствием комплексного толкования отдельных ее норм [6, с. 19].
Репродуктивные возможности, применяемые с использованием генетических технологий, в том числе и при реализации суррогатного материнства, всегда подразумевают сложное взаимодействие множества субъектов таких отношений, к числу которых относятся: суррогатная мать, потенциальные родители, медицинская организация, донор генетического материала [1, с. 23].
Так как мы исходим из посыла, что вспомогательные репродуктивные технологии (далее – ВРТ) являются способом лечения бесплодия, а не простым следствием желания родителей избежать процесса беременности и родов (в случае применения суррогатного материнства), то это означает, что при реализации того или иного метода может возникнуть потребность в использовании донорского генетического материала, а не генетического материала лиц, инициировавших реализацию того или иного метода ВРТ.
«Биомедицина как результат биотехнологической революции, аккумулировав в себе все существующие достижения медицины и смежных с ней наук, привела к конструированию новых вариантов биосоциальной реальности, активно вытесняя устоявшиеся, традиционные модели поведения» [9, с. 7]. Сложным и неоднозначным вопросом, вокруг которого не утихают научные споры, является вопрос возможности определения генов и разнообразных генетических конструкций в качестве полноценных объектов гражданских правоотношений, в том числе при оказании услуг суррогатного материнства.
Необходимо четко понимать, что «только физически, генетически и психически здоровые мужчина и женщина могут создать здоровую семью, не перенося бремя серьезных болезней на свою «"вторую половину" и будущих детей. Стремительные темпы современной жизни не всегда предоставляют возможность плановой диспансеризации тех или иных слоев населения» [7, с. 41]. Развитие и научное осмысление геномных технологий осуществляются в тесном взаимодействии, а в некоторых случаях – только в рамках медицинской деятельности (практики) в широком ее понимании, что представляется весьма оправданным и необходимым. Действительно, деятельность любой медицинской организации является важным видом социально ориентированной практической деятельности медицинских сотрудников, занижающей значимое общественное положение не только для непосредственных пациентов, но и для всего общества и государства в целом [8, с. 6].
Безусловно, медико-генетическая деятельность имеет достаточно значимый социальный и правовой характер, направленный на диагностику и лечение при суррогатном материнстве.
Суррогатное материнство как социально-правовое явление представляет собой комплексное правоотношение в сфере услуг, возникающее на основе договора суррогатного материнства, в целях лечения бесплодия потенциальных родителей, посредством рождения суррогатной матерью ребенка в интересах потенциальных родителей [2, с. 243].
Названные правоотношения порождают множество проблем как социального (морально-нравственного), так и правового содержания. К числу таких проблемных вопросов можно отнести вопросы правового положения донора генетического материала и вопрос определения происхождения ребенка.
Необходимо учитывать, что здоровье граждан – это достаточно динамическое состояние психического, физического и социального благополучия отдельно взятого индивида (и общества в целом), а не только отсутствие болезней и физических недостатков. Современное становление и развитие общества и права в России обуславливает особую значимость и важность реальной возможности использования в медицинской практике генетических технологий, конечно, относящихся преимущественно к сфере частной жизни пациента, и направленных на выбор эффективных направлений и алгоритмов лечения пациентов, в том числе при суррогатном материнстве.
В результате использования донорского генетического материала между донором и рожденным ребенком возникает генетическое родство, которое в некоторых ситуациях может лечь в основу споров о наличии или отсутствии детско-родительских правоотношений, складывающихся по итогам реализации услуг в сфере суррогатного материнства.
Используя генетический материал в своем брачно-семейном интересе, вопросов относительно возникновения детско-родительских правоотношений между родившимся ребенком и донором, который фактически является истинным родителем такого ребенка, не возникает. Если родители ребенка состоят в зарегистрированном браке, то подлежит применению пункт 1 статьи 51 Семейного кодекса Российской Федерации 2 (далее – СК РФ) в соответствии с которым отец и мать, состоящие в браке между собой, записываются родителями ребенка в книге записей рождений по заявлению любого из них. Если родители не состоят в зарегистрированном браке, а осуществляют фактические брачные отношения, подлежит применению пункт 2 названной статьи, в соответствии с которым, если родители не состоят в браке между собой, запись о матери ребенка производится по заявлению матери, а запись об отце ребенка – по совместному заявлению отца и матери ребенка.
Однако в ситуации, когда донорство генетического материала осуществляется в целях, не связанных с рождением ребенка в собственных брачно-семейных интересах, возникает определенная правовая неурегулированность в вопросе правового положения донора по отношению к рожденному ребенку и защиты прав данных субъектов правоотношений. «Необходимо констатировать, что, к сожалению, осознание необходимости адекватного и соответствующего современным жизненным реалиям гражданско-правового регулирования генно-инженерной деятельности в отношении человеческого организма пришло к российскому законодателю не сразу» [4, с. 27].
Данные обстоятельства являются причиной фактического отсутствия развития гражданско-правового регулирования применения достижений генетических разработок в современной медицинской практике в целом и при оказании услуг суррогатного материнства в частности.
В соответствии с нормой статьи 47 СК РФ права и обязанности родителей и детей основываются на происхождении детей, удостоверенном в установленном законом порядке. При естественном зачатии вопрос удостоверения происхождения ребенка регулируется нормами статьи 48, где установлено, что происхождение от матери подтверждается соответствующими документами из медицинского учреждения, которые являются основанием для выдачи свидетельства о рождении. В отношении отца отцовство презюмируется, если родители ребенка состоят в зарегистрированном браке, а если брак между ними не зарегистрирован, то требуется подача в органы ЗАГС совместного заявления отца и матери.
Такое регулирование является проявлением подразумеваемой семейным законодательством и доктриной семейного права презумпции отцовства супруга матери ребенка. Правовое содержание этой презумпции заключается в освобождении супругов от обязанности доказывать происхождение ребенка, что является проявлением общепринятого представления о нормальной жизнедеятельности семейной пары. Дополнительным подтверждением этой презумпции является отсутствие у замужней женщины самостоятельного права заявить, что отцом ребенка является не ее законный супруг, а третье лицо.
При использовании в процессе деторождения донорского генетического материала при оказании таких услуг подлежит применению абзац 1 пункта 4 статьи 51 СК РФ, который устанавливает, что если супруги в письменной форме дали свое согласие на применение метода искусственного оплодотворения или на имплантацию эмбриона, то в случае рождения у них ребенка в результате применения таких методов они записываются его родителями.
На случай реализации супругами метода суррогатного материнства при оказании данных медицинских услуг, то есть когда непосредственная беременность наступает не у матери ребенка (супруги), а у третьего лица – суррогатной матери, законодатель предусмотрел специальное правило, изложенное в абзаце 2 пункта 4 статьи 51 СК РФ, в соответствии с которым супруги, давшие свое согласие в письменной форме на имплантацию эмбриона другой женщине в целях его вынашивания, могут быть записаны родителями ребенка только с согласия суррогатной матери.
Как видно, пункт 4 статьи 51 СК РФ говорит о ситуации, когда к методам ВРТ прибегают исключительно супруги, иных норм права, прямо посвященных регулированию детско-родительских отношений, нет.
С этой точки зрения представляется весьма интересным дело, которое было рассмотрено Верховным Судом РФ. Суть дела заключается в том, что истица прибегла к методам ВРТ с использование донорского ге- нетического материала ответчика, с которым она в брачных отношениях не состояла. В результате ВРТ истица родила двух детей. После родов она обратилась в суд с требованием о признании донора (ответчика) отцом детей и взыскании алиментов. В основу иска было положено утверждение о генетическом родстве ответчика и детей.
При первоначальном рассмотрении суд отказал в удовлетворении требования истицы в связи с тем, что истица и ответчик в браке не состояли, ответчик являлся донором генетического материала и обязательств по участию в воспитании и содержании детей на себя не принимал, в связи с чем у него не возникли родительские права и обязанности в отношении родившихся детей.
Суд апелляционной инстанции, наоборот, занял позицию истицы и указал, что ответчик проходил программу ЭКО как гражданский муж истицы, основываясь на чем суд апелляционной инстанции пришел к выводу о том, что ответчик принимал участие в процедуре ЭКО истицы не только как донор генетического материала, но и как партнер истицы, в связи с чем у него возникли родительские права и обязанности в отношении родившихся у истицы детей.
Кассационная инстанция также поддержала истицу и оставила апелляционное определение в силе. Однако Верховный Суд заинтересовался этим делом и в результате его рассмотрения окончательно определил, что так называемое «партнерство» истицы, не состоящей в браке с ответчиком – донором спермы, в вопросе правового содержания процедуры ЭКО не является достаточным основанием для установления отцовства в судебном порядке 3 .
Достаточно простая по своему содержанию ситуация, когда, основываясь на генетическом родстве, донору генетического материала пытаются необоснованно вменить права и обязанности родителя, породила достаточно длительное судебное разбирательство.
Представляется, что такая ситуация является следствием отсутствия в семейном законодательстве нормы права, которая прямо устанавливала бы запрет на вменение донору генетического материала обязанностей родителя, основываясь на его генетическом родстве с ребенком.
При этом положения статьи 49 СК РФ, посвященные вопросу установления отцовства в судебном порядке (а в большинстве случаев при донорстве генетического материала речь идет о донорстве именно мужского генетического материала), указывают, что в вопросе определения отцовства суд принимает во внимание любые доказательства, с достоверностью подтверждающие происхождение ребенка от конкретного лица.
Ввиду отсутствия иных норм права формулировка приведенной статьи позволяет применять ее к отношениям деторождения, в которых принимал участие донор генетического материала, в результате чего возможны ситуации, в которых донору генетического материала вменяют права и обязанности родителя, хотя его действия не преследовали целью рождение ребенка в своем интересе, а были направлены на содействие в излечении бесплодия третьего лица.
Все это в совокупности позволяет суду принимать подобные решения, которые противоречат содержанию истинных отношений сторон.
Безусловно, можно парировать приведенные рассуждения и обратиться к Постановлению Пленума Верховного Суда РФ от 16 мая 2017 г. № 16 4 , в котором даются очевидные, но, как видно, так необходимые разъяснения для нижестоящих судов. В частности, Пленум разъяснил, что смысловое содержание пункта 4 статьи 51 СК РФ предопределяет, что рождение ребенка семейной парой или одинокой женщиной с использованием донорского генетического материала не влечет правовых последствий, выраженных в установлении или в требовании установления родительских правоотношений между донором генетического материала и ребенком, рожденным с использованием донорского генетического материала. При этом не имеет значения, было ли донорство анонимным или нет.
С учетом этого лицо, являвшееся донором генетического материала, не вправе при разрешении требований об оспаривании или установлении отцовства ссылаться на то обстоятельство, что оно является фактическим родителем ребенка.
Однако наличие приведенного разъяснения Пленума не решает описываемую проблему в полной мере, так как в некоторых случаях суды игнорируют правовые позиции Верховного Суда РФ и принимают противоречивые решения, которые потом вынужден отменять Верховный Суд РФ.
Обращаясь к международному опыту правового регулирования оказания услуг суррогатного материнства, можно отметить, что семейно- правовая доктрина и законодательство Соединенных Штатов Америки исходят из такого же посыла, что и Российская Федерация, в частности в США провозглашается приоритет семейного союза в вопросе установления детско-родительских правоотношений. Следствием такого подхода является принцип, в соответствии с которым, если замужняя женщина прибегает к методам ВРТ, то ее супруг признается отцом ребенка независимо от того, является ли он биологическим отцом ребенка или нет. То есть муж женщины при любом способе зачатия (естественном или искусственном) презюмируется отцом ребенка [10]. Вопросу правового положения донора генетического материала в США посвящен единообразный закон «О материнстве и отцовстве»5, который устанавливает, что донор генетического материала не может быть признан отцом ребенка только по основанию его генетического родства с ребенком, так как отношения донорства не являются прямым основанием возникновения прав и обязанностей родителя по отношению к ребенку. В таком случае отцом ребенка признается мужчина, который в письменном виде выразил свое информированное намерение быть отцом ребенка, зачатого с использованием донорского генетического материала.
Гражданский кодекс Квебека устанавливает, что мужчина, который даст свое согласие на применение ВРТ, в том числе с использованием донорского генетического материала, и в последствии откажется признавать такого ребенка как своего, может быть привлечен к гражданской ответственности перед матерью ребенка и самими ребенком, но он не может быть признан отцом такого ребенка 6 .
Согласно закону Испании №35/1988, изданному еще в 1988 году, если супруги дали свое предварительное информированное согласие на применение методов ВРТ в вопросе деторождения в своем интересе, то они не смогут в дальнейшем оспорить родство с таким ребенком, основываясь исключительно на отсутствии между ними и ребенком генетического родства.
Французское законодательство весьма интересно определяет, что при наличии предварительного согласия супругов на проведение ВРТ с использованием донорского генетического материала оспаривание отцовства возможно только в случае наличия порока воли в момент выдачи согласия на проведение ВРТ.
Схожим образом урегулирован вопрос оспаривания отцовства в Великобритании, где установлено, что в случае применения метода ВРТ оспаривать отцовство можно только по основанию отсутствия согласия мужа на проведение соответствующих процедур [3]. При этом в названных государствах донорам генетического материала не вменяются родительские права и обязанности по отношению к ребенку, рожденному с использованием их генетического материала.
Правовая неопределенность подобного содержания стала следствием достаточно активного и прогрессирующего научно-технического развития генетических технологий в общем и вспомогательных репродуктивных технологий в частности.
В соответствии с разделом 2 «Федеральной научно-технической программы развития генетических технологий на 2019–2027 годы» (далее – Программа развития генетических технологий), утвержденной Постановлением Правительства РФ от 22 апреля 2019 года № 479 7 , основная цель Программы развития генетических технологий заключается в разрешении задач продуктивного развития генетических технологий и исследований, включая исследование генетического редактирования.
Неизбежно обращает на себя внимание объективное наличие межотраслевых связей между гражданскими, медицинскими, административными, семейными, предпринимательскими, биосоциальными и иными отношениями при оказании услуг суррогатного материнства и защиты прав участников данных правоотношений. Думается, что такой межотраслевой подход необходимо реализовывать непосредственно при правовом регулировании генетических технологий при суррогатном материнстве и внедрении генодиагностики и генотерапии в медицинскую практическую деятельность.
В современных реалиях стоит задача определения и законодательного закрепления режима генов с точки зрения гражданского права в качестве самостоятельного объекта гражданских правоотношений. Это позволит определить методы и приемы гражданско-правового регулирования, а также границы дозволенного поведения субъектов деятельности в области практического использования новейших генетических техноло- гий и достижений, направленных на непосредственное использование генов и генетических технологий в гражданском обороте [5, с. 108].
Сегодня можно с уверенностью утверждать, что достижения науки в области генетических технологий позволяют реализовывать такие генетические приемы и методы, которые еще 10-15 лет назад казались недостижимыми. Соответственно, возможность реализации различных генетических технологий, с одной стороны, позволяет нам заглянуть в будущее генетических исследований, с другой стороны, создает достаточно серьезные проблемы и пробелы правового регулирования таких технологий и возникающих на их базе отношений суррогатного материнства.
При этом нужно отметить, что согласно информации, изложенной в 1 разделе Программы развития генетических технологий, Россия не является лидером в данной области, а по некоторым показателям не входит даже в десятку стран, но даже на таком уровне развития у нас уже возникают определенные проблемы правового регулирования последствий применения на практике различных генетических технологий (к числу которых, конечно, относятся вспомогательные репродуктивные технологии).
Список литературы Применение генетических технологий при оказании услуг по суррогатному материнству: проблемы судебной защиты прав
- Алборов С.В. Многоаспектный подход к суррогатному материнству как социально-правовому явлению в контексте обеспечения семейных ценностей // Юридическое образование и наука. 2018. № 9. С. 22-27.
- EDN: XZBALR
- Алборов С.В. Правовое и индивидуальное регулирование суррогатного материнства: дис. … канд. юрид. наук. М.: РГУП, 2019.
- Лебедева О.Ю. Проблемы, возникающие при установлении происхождения детей, рожденных при помощи методов вспомогательной репродукции: обзор законодательства и правоприменительной практики стран Европы, Канады и США // Семейное и жилищное право. 2013. № 5. С. 32-35.
- EDN: RIYDZH
- Левушкин А.Н. Гражданско-правовое регулирование геномных технологий и оборотоспособность генов как объектов гражданских прав // Гражданское право. 2019. № 5. С. 26-29.
- EDN: IRTPIR
- Левушкин А.Н. Гражданско-правовой режим генов как объектов гражданских прав // Lex russica. 2019. № 6. С. 100-109.
- EDN: SKPEHL