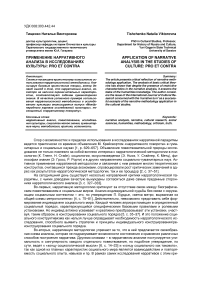Применение нарративного анализа в исследованиях культуры: pro et contra
Автор: Тищенко Наталья Викторовна
Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc
Рубрика: Культура
Статья в выпуске: 5, 2016 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена критическому осмыслению использования нарративистской методологии. Анализируя базовые критические теории, автор делает вывод о том, что нарративный анализ, несмотря на наличие ограничительных характеристик, соответствует задачам гуманитарного знания. В качестве успешного примера использования нарративистской методологии в исследованиях культуры анализируется выпуск «Международного журнала исследований культуры», посвященный «нарративному повороту».
Нарративный анализ, повествование, исследования культуры, социологическое знание, гуманитарные науки, методология, критика, истинность
Короткий адрес: https://sciup.org/14940953
IDR: 14940953 | УДК: 008:303.442.44
Текст научной статьи Применение нарративного анализа в исследованиях культуры: pro et contra
Спор о возможностях и пределах использования в исследованиях нарративной парадигмы ведется практически со времени объявления М. Крейсвортом «нарративного поворота» в гуманитарных и социальных науках [1, р. 629–657]. Объявление повествовательной природы исследования не только повлекло за собой всплеск интереса к нарратологической методологии в психологии (К. Гленн, Н. Стайн), социологии, искусствоведении (Э. Ньюк, У. Стайнер, К. Метц), философии знания (Э. Гросс, Р. Рорти) и в других направлениях социально-гуманитарных наук. Активное применение нарративной методологии и связанная с ним ревизия многих теоретических конструктов, считавшихся прежде аксиомами, спровоцировали рост критических замечаний в адрес как результатов нарратологической методологии, так и ее процедур [2, с. 37–51].
На сегодняшний день существует несколько направлений критики нарратологической парадигмы, с чьими доводами зачастую вынуждены согласиться даже самые преданные сторонники нарратологического анализа [3, с. 327–333].
Во-первых, нарративную методологию критикуют за отсутствие связи между биографическим повествованием и социальным миром. Анализ индивидуальной судьбы без связи с окружающим социальным контекстом – это, по утверждению П. Бурдье, «ветка метро, вырванная из общей схемы метрополитена» [4, с. 75–81]. Действительно, невозможно представить себе формирование индивида вне социального мира. Каждый человек априори помещен в определенный социальный порядок, характеризующийся специфическими базовыми правилами и ролевыми установками. Но индивид активно усваивает и креативно преобразовывает эти установки, участвуя, таким образом, в конструировании социального порядка [5, с. 35–37]. И это положение социального конструктивизма как нельзя лучше оправдывает необходимость нарратологического исследования, способного выявить стратегии и принципы индивидуального конструирования/ре-конструирования социального порядка.
Во-вторых, нарративную методологию упрекают за то, что в ней предлагается своеобразная схема анализа, которая не подразумевает возможности соотнесения и сравнения различных способов построения нарратива. Другими словами – в нарративном анализе постулируется уникальность и сингулярность каждого отдельного повествования, но подобное утверждение, по сути, ведет к «концу социологической мысли» [6, с. 14–23] и «концу социального как такового», так как одной из главных характеристик социального мира является взаимодействие и повторяемость социального опыта, навыков и пр. В рамках самих исследований нарративов с этим кри- тическим замечанием не соглашаются, не видя в сингулярности угрозы социальному миру. Уникальность – это такая же необходимая часть социального мира, как и повторяемость. Она способствует созданию идеалов, паттернов, образцов поведения, без которых невозможно представить функционирование никакого сообщества.
В-третьих, одним из самых активно критикуемых аспектов нарратива является определение истинности в рамках нарративной методологии. Одна группа исследователей полагает, что нарратив воспроизводит реальные события (Х. Уайт, П. Рикер); другие авторы утверждают, что с помощью нарратива индивид конституирует действительность, выделяя существенные с его точки зрения события; третья категория ученых утверждает, что привнесение индивидом своих ценностей и приоритетов в рассказываемую историю – это одна из базовых черт нарратива и важная составляющая исследовательской практики. Но в любом случае, какую бы методологическую позицию не занимал исследователь, он обязательно сталкивается с проблемой определения если не истинности, то уровня достоверности того эмпирического материала, с которым он работает. Для критиков нарративного анализа вопрос истинности/объективности нарратива становится главным аргументом, трансформирующим нарративную методологию из парадигмы, претендующей на тотальную объяснительную функцию, в метод, имеющий крайне ограниченное пространство для применения.
Ситуация усложняется тем, что в рамках нарратива одновременно воспроизводятся две темпоральные конструкции – прошлое и настоящее. Нарратив посвящен прошедшим событиям и поэтому по определению всегда является избирательной реконструкцией предыдущего опыта, из которой исключаются все элементы, не соответствующие тому периоду, когда нарратив формулируется. Силами, влияющими на содержание нарратива, могут быть самые различные явления: от господствующих идеологий до изменившейся системы саморепрезентации, не позволяющей индивиду воспроизводить те факты из прошлого, которые расходятся или противоречат его нынешнему статусу. И даже уровень институциональности нарратива не снимает данной проблемы. Исторические артефакты (летописи, свидетельства и пр.), автобиография политического деятеля или рассказ обывателя – все эти эмпирические материалы несопоставимы друг с другом по уровню институционализации, но всех их объединяет избирательность и вариативность в формировании нарратива. События, фигурирующие в нарративах, как правило, соответствуют общепризнанным историческим фактам, но вот интерпретация, последовательность микроисторий и оценка роли тех или иных участников всегда будут определяться спецификой социального статуса, культурной идентификацией автора нарратива [7, с. 11–24].
Наиболее эффективную критику данной проблемы в нарративном анализе предлагает Ф.Р. Анкерсмит, который достаточно долгое время был одним из самых последовательных сторонников применения нарративной методологии в исторических исследованиях. Однако в работе «История и тропология; взлет и падение метафоры» Анкерсмит приходит к выводу, что нарративный подход неприменим к историческому опыту, так как любой нарратив – это самодостаточная реальность, никак не связанная с исторической реальностью [8, с. 234–237]. Показательно, что Анкерсмит сравнивает структуру нарратива с современным искусством, приписывая и тому и другому абсолютную самодостаточность и автономность.
Ряд авторов пытается решить дилемму истинности в нарративной методологии через нивелирование, отрицание этой проблемы. С точки зрения этих исследователей, нарративный анализ не ставит перед собой задачу «установления исторической истинности индивидуального объяснения» [9, с. 56–74]. В результате нарратив редуцируется к формам презентации индивидуального опыта и конструирования субъективных смыслов, и именно в этом заключается его фундаментальное значение. Однако нарратив следует рассматривать не только как свидетельство индивидуального опыта, но и как практику, способствующую выявлению механизмов конструирования, воспроизводства и трансляции социальных представлений.
Показательно, что и социологические науки, и философия истории, исходя из совершенно разных предпосылок, приходят к одному и тому же выводу: нарративная методология представляет собой очень важный исследовательский опыт, но вот объекты этого опыта лежат вне социальных и исторических фактов. Несмотря на то что авторы определяют нарратологический поворот как тенденцию, характерную и для социологических, и для гуманитарных наук, в большинстве случаев речь все-таки идет именно о социологическом знании и о возможности применения нарратива в его рамках. Даже беглый обзор эмпирических исследований, представленных в различных сборниках по нарратологической методологии, позволяет отметить доминирование именно «социологических» тем: анализ функционирования социальных институтов (здравоохранения, образования, социальной защиты и пр.), изучение различных социальных групп (гендерных, возрастных, этнических, религиозных).
Однако сами характеристики нарратива – адресность, индивидуальность, событийность, темпоральность, метафоричность – указывают на то, что предпочтительнее использовать эту методологию в таких гуманитарных отраслях, как исследования культуры, искусствоведение, анализ художественных текстов и т. д., то есть там, где именно индивидуальная судьба, авторское толкование, субъективная репрезентация имеют принципиальное значение. Изначальная дисциплинарная принадлежность нарратологии к социологическому знанию заставляет до сих пор с большой осторожностью использовать ее методологию в рамках исследований культуры. Здесь сказываются и принципы исследовательской этики – не пересекать границы дисциплинарных методов, несмотря на «господство» междисциплинарного подхода, и сомнения по поводу репрезентативности нарративного метода в отношении культурных артефактов, объектов искусствоведения – можно ли считать нарративами тексты художественных произведений (мемуары, беллетристику, эпистолярный жанр), или кинотексты, или музыкальные произведения? Вопросов достаточно много, и исследователям еще предстоит сформулировать ответы на них.
Одной из недавних попыток осмыслить значение нарративной методологии для гуманитарного знания является выпуск в 2013 г. «Международного журнала исследований культуры» с темой номера «Нарративный поворот» [10]. На страницах этого выпуска нигде не формулировалась задача – «порвать» с социологическим знанием в рамках нарратологической методологии, но стремление собрать работы нарратологов под эгидой журнала, специализирующегося на исследованиях культуры, имплицитно подразумевает именно такой девиз. Однако уже обзор содержания номера показывает, что традиционные для исследований культуры объекты изучения (кинотексты, художественная автобиография, музейная деятельность, арт-объекты) оттесняются объектами нарратологического анализа, более соответствующими социологическому дискурсу, – медицинской практикой, религиозными убеждениями, рыночными отношениями, социологией науки и т. д. А прочтение статей еще больше убеждает в том, что все-таки социологический контекст нарративистской методологии остается превалирующим. Об этом свидетельствуют не только выбираемые нарративы для исследования, но и используемые многочисленные социологические теории, концепты, методики исследования.
Программная статья выпуска В.Л. Лехциера посвящена нейтральной проблеме – вопросу актуальности нарратологической методологии, и автор очень последовательно и убедительно доказывает, что область актуальных нарративистских исследований если не безгранична, то достаточно широка, необходимо только учитывать ряд принципиальных для нарратологической методологии положений [11, с. 5–9]. Однако вопрос об уместности нарратологической методологии именно в исследованиях культуры так и остается неразрешенным на страницах выпуска. Причем показательно, что в статьях, которые включены в раздел, посвященный культурным практикам (прежде всего различным типам кураторства), нарратологическая методология не отражена ни на уровне теории, ни на уровне эмпирических исследований.
Подводя итог размышлениям об уместности нарратологической методологии в исследованиях культуры, следует заметить, что во многом причиной игнорирования нарративистской методологии является неготовность самих авторов работать со столь провокационной исследовательской моделью. При всей справедливости критики в адрес нарративистской методологии нельзя не отметить ее позитивное значение для развития знания и научных дисциплин. Именно нарратологическая методология с ее принципиальным вниманием к сингулярному и индивидуальному способна преодолеть косность и ограниченность многих теоретических построений, которые сегодня используются в гуманитарном и социологическом знании. Еще одной важной чертой нарратива является его фундаментальная и методологическая незавершенность – поставить точку в нарративе можно только лишь принудительным, волюнтаристским способом, так как любое повествование предполагает возможность постоянных добавлений, исправлений и пр. Эта незавершенность знания в нарратологической методологии коррелирует с характеристикой гуманитарного знания, чей базовый объект исследования – человек – представляет собой незавершенный проект, который невозможно описать с помощью конечных величин [12, с. 26–30]. Соответствие природы нарратива и гуманитарного знания вполне может послужить достаточным основанием для более интенсивного применения возможностей нарративной методологии в исследованиях культуры.
-
А. Макинтайр предлагает нарратологическое определение сущности человека: «Человек – это животное, которое рассказывает истории» [13, с. 291–292], продолжая тем самым европейскую философскую традицию, идущую от Платона и Аристотеля. Несмотря на всю метафоричность определения и многочисленные попытки оспорить повествовательную природу индивида [14, р. 428–452], невозможно не согласиться, что в большинстве случаев все то, что мы сегодня знаем о культуре, исторических процессах, экономических стратегиях, политических технологиях
-
и, в конце концов, о человеческой самости, – это своеобразные нарративы, получившие ту или иную степень легитимности.
Ссылки:
-
1. Kreisworth M. Trusting the Tale: the Narrativist Turn in the Human Sciences // New Literary History. 1992. Vol. 23, № 3. Р. 629–657.
-
2. Брокмейер И., Харре Р. Нарратив: проблемы и обещания одной альтернативной парадигмы // Вопросы философии. 2000. № 3. С. 37–51.
-
3. Борисенкова А.В. Нарративный поворот и его проблемы // Новое литературное обозрение. 2010. № 3 (103). C. 327–333.
-
4. Бурдье П. Биографическая иллюзия // Интер. 2002. № 1. С. 75–81.
-
5. Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности: трактат по социологии знания. М., 1995. 323 с.
-
6. Берто Д. Полезность рассказов о жизни для реалистичной и значимой социологии // Биографический метод в изуче
нии постсоциалистических обществ : материалы междунар. семинара / под ред. В. Воронкова и Е. Здравомысловой. СПб., 1997. Вып. 5. С. 14–23.
-
7. Зверева Г.И. Реальность и исторический нарратив: проблемы саморефлексии новой интеллектуальной истории // Одиссей: Человек в истории. М., 1996. С. 11–24.
-
8. Анкерсмит Ф.Р. История и тропология: взлет и падение метафоры. М., 2009. 400 с.
-
9. Троцук И.В. Нарратив как междисциплинарный методологический конструкт в современных социальных науках // Вестник РУДН. Серия «Социология». 2004. № 6-7. С. 56–74.
-
10. Международный журнал исследований культуры [Электронный ресурс]. 2013. № 1 (10). URL: http://culturalre-
search.ru/files/open_issues/01_2013/IJCR_01(10)_2013.pdf (дата обращения: 12.05.2016).
-
11. Лехциер В.Л. Нарративный поворот и актуальность нарративного разума [Электронный ресурс] // Международный журнал исследований культуры. 2013. № 1 (10). С. 5–9. URL: http://culturalresearch.ru/ru/archives/89-narrturne (дата обращения: 12.05.2016).
-
12. Батай Ж. Внутренний опыт. СПб., 1997. 336 с.
-
13. Макинтайр А. После добродетели: Исследования теории морали. М. ; Екатеринбург, 2000. 384 с.
-
14. Strawson G. Against narrativity // Ratio (new series). 2004. Vol. XVII, № 4. P. 428–452.
Список литературы Применение нарративного анализа в исследованиях культуры: pro et contra
- Kreisworth M. Trusting the Tale: the Narrativist Turn in the Human Sciences//New Literary History. 1992. Vol. 23, № 3. Р. 629-657.
- Брокмейер И., Харре Р. Нарратив: проблемы и обещания одной альтернативной парадигмы//Вопросы философии. 2000. № 3. С. 37-51.
- Борисенкова А.В. Нарративный поворот и его проблемы//Новое литературное обозрение. 2010. № 3 (103). C. 327-333.
- Бурдье П. Биографическая иллюзия//Интер. 2002. № 1. С. 75-81.
- Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности: трактат по социологии знания. М., 1995. 323 с.
- Берто Д. Полезность рассказов о жизни для реалистичной и значимой социологии//Биографический метод в изучении постсоциалистических обществ: материалы междунар. семинара/под ред. В. Воронкова и Е. Здравомысловой. СПб., 1997. Вып. 5. С. 14-23.
- Зверева Г.И. Реальность и исторический нарратив: проблемы саморефлексии новой интеллектуальной истории//Одиссей: Человек в истории. М., 1996. С. 11-24.
- Анкерсмит Ф.Р. История и тропология: взлет и падение метафоры. М., 2009. 400 с.
- Троцук И.В. Нарратив как междисциплинарный методологический конструкт в современных социальных науках//Вестник РУДН. Серия «Социология». 2004. № 6-7. С. 56-74.
- Международный журнал исследований культуры . 2013. № 1 (10). URL: http://culturalre-search.ru/files/open_issues/01_2013/UCR_01(10)_2013.pdf (дата обращения: 12.05.2016).
- Лехциер В.Л. Нарративный поворот и актуальность нарративного разума //Международный журнал исследований культуры. 2013. № 1 (10). С. 5-9. URL: http://culturalresearch.ru/ru/archives/89-narrturne (дата обращения: 12.05.2016).
- Батай Ж. Внутренний опыт. СПб., 1997. 336 с.
- Макинтайр А. После добродетели: Исследования теории морали. М.; Екатеринбург, 2000. 384 с.
- Strawson G. Against narrativity//Ratio (new series). 2004. Vol. XVII, № 4. P. 428-452.