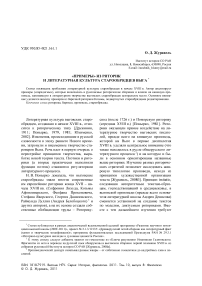«Примеры» из риторик и литературная культура старообрядцев выга
Автор: Журавель Ольга Дмитриевна
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Древнерусский четий сборник: от средневековья к новому времени
Статья в выпуске: 8 т.10, 2011 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена проблемам литературной культуры старообрядцев в начале XVIII в. Автор анализирует примеры («парадигмы»), которые включались в рукописные риторические сборники и влияли на книжную проповедь, занимавшую в литературном творчестве выговских старообрядцев центральное место. Основное внимание уделяется анализу примеров из барочной риторики Козьмы, подвергнутых старообрядцами редактированию.
Риторика, барокко, проповедь, старообрядцы
Короткий адрес: https://sciup.org/14737585
IDR: 14737585 | УДК: 930.85+821.161.1
Текст научной статьи «Примеры» из риторик и литературная культура старообрядцев выга
Литературная культура выговских старообрядцев, созданная в начале XVIII в., относится к риторическому типу [Дружинин, 1911; Понырко, 1979, 1981; Юхименко, 2002]. Изменения, происходившие в русской словесности в эпоху раннего Нового времени, затронули и письменное творчество староверов Выга. Речь идет в первую очередь о перестройке принципов творчества, выработке новой теории текста. Поэтики и риторики (а вторые практически выполняли функции поэтик) становятся регуляторами литературного процесса.
Н. В. Понырко доказала, что выговские старообрядцы знали многие современные им европейские риторики конца XVII – начала XVIII вв. (Софрония Лихуда, Козьмы Афоноиверского, Феофана Прокоповича, Стефана Яворского, Георгия Даниловского, Раймунда Луллия (Андрея Белобоцкого) 1 и других авторов), а на их основе создали собственные обобщающие труды – Риторику- свод (после 1726 г.) и Поморскую риторику (середина XVIII в.) [Понырко, 1981]. Риторики оказывали прямое воздействие на литературное творчество выговских писателей, прежде всего на книжную проповедь, которой на Выге в первые десятилетия XVIII в. уделяли центральное внимание (что также находилось в русле общерусского литературного процесса 2) и на которую и были в основном ориентированы названные выше риторики. Изучение разных риторических стратегий позволяет исследовать жанровую типологию проповеди, исходя из принципов художественной организации текста [Журавель, 2008б]. Принцип imitatio, следования авторитетным текстам-образцам, господствовавший в средневековье, в выговской проповеди (прежде всего основателя литературной школы Андрея Денисова) сменяется установкой на создание текстов по моделям, диктуемым риториками. Вместе с тем дальнейшего изучения требуют
* Статья публикуется в рамках аналитической ведомственной целевой программы «Развитие научного потенциала высшей школы (2009–2011)», проект № 2.1.3/12135: «Древнерусский четий сборник как литературный факт (канон и творческие модификации)»; программы фундаментальных исследований Президиума РАН № 29.3.1 «Историко-культурное наследие и духовные ценности России».
сами риторические сборники 3 – их рукописная традиция, состав и концептуальные установки.
Известно, что риторики представляли собой не просто свод нормативных правил, они заключали в себе определенную систему ценностей [Аверинцев, 1981; 1996; Лахманн, 2001]. Теоретические разделы ри-торик традиционно сопровождались «примерами», или «парадигмами», наглядно демонстрирующими те или иные способы организации текста проповеди 4. Именно этот – в некоторых риториках весьма обильный – иллюстративный материал превращал иногда риторические сборники в своеобразные четьи книги [Крекотень, 1983]. Анализ этих примеров позволяет пролить дополнительный свет на концептуальные установки риторик, а также понять, что вызывало интерес старообрядцев и находило отклик в их оригинальном творчестве.
Наибольшей популярностью у старшего поколения выговских писателей – Андрея и Семена Денисовых и их учеников – пользовались барочные риторики Софрония Лиху-да и Козьмы, особенно пышно уснащенные примерами. Как известно, в культуре барокко центральное внимание уделялось двум уровням риторического учения – inventio («изобретение», поиск источников аргументации) и elocutio («ветийство» или «красно-глаголание», стилистический уровень). Именно они выходят на первый план в собственном риторическом учении выговских старообрядцев, о чем свидетельствует структура Риторики-свода и Поморской риторики [Журавель, 2008б]. В риториках Софрония и Козьмы, как и в зависимых от них оригинальных выговских риториках, теоретические разделы inventio и elocutio содержат множество «парадигм», основанных на библейских (ветхозаветных), античных мифологических сюжетах, и примеров риторизации агиографического, историче- ского, полемического материала. «Примеры» отразили культурные стили, в контексте которых они были созданы, барочно-гумантистические и просветительские идеи.
Одни «примеры» переписывались старообрядцами в неизменном виде в составе содержащих их книг, а затем попадали в вы-говские оригинальные риторики, другие подвергались редактированию. Под воздействием теоретических положений адаптированных риторик выговскими авторами создавались и собственные «парадигмы» [Журавель, 2008б]. Они либо оставались иллюстрациями к статьям риторик, либо в совокупности, как кусочки мозаики, составляли самостоятельные сочинения, «отрывавшиеся» от теоретического контекста. Таковыми являются, например, Слова Андрея Денисова о девстве [Дружинин, 1912. С. 115, № 110] 5, о времени [Там же. С. 117, № 119] 6, о человеке [Там же. № 118; Журавель, 2008б. С. 83–85].
Риторики отразили тенденцию к рационализации, логизации проповеднического дискурса. Старообрядческие книжники переписывают из риторик разделы, содержащие силлогизмы, снабжают их собственными «примерами», дают «парадигмы» на аристотелевские категории и производные от них вопросы. Так, Слово Андрея Денисова о покаянии составлено на основе 10-ти аристотелевских вопросов и полностью переписано в Риторике-своде как образец соответствующей (по терминологии Риторики Луллия-Белобоцкого, 2-й философской) формы [Журавель, 2008б. С. 65].
Рационализм, присущий искусству барокко [Еремин, 1979. С. 189], совмещался с тенденцией к иносказанию, пристрастием к символам, аллегориям, эмблемам. Ритори-зация эмпирического материала зачастую означала экзегезу, предполагающую активизацию «аллегорического сенса». С новой силой возрождается известное по античным риторикам учение о 4-х смыслах Священного Писания. Риторики включают соответствующие теоретические разделы, густо уснащаются метафорами, аллегориями, содержат «парадигмы» на басню, притчу, эмблему. Эти малые жанры в сответствии с требованиями барочных риторик должны были составлять части проповеди как крупного жанра, на правах источников, «внешних мест». Основанные на бродячих сюжетах, содержащие множество тропов, «примеры» на басню и притчу – как заимствованные, так и собственные, сочиненные Андреем Денисовым, обладают занимательностью, по-барочному инкрустируя теоретические сочинения [Журавель, 2008в.].
Риторики Софрония Лихуда и Козьмы основаны на сочинении Франческо Скуффи, предназначавшемся в качестве учебника для венецианской эллинской школы [Лопарев, 1907]. Обращаясь к юношеству, и итальянский ритор, и его московские адепты греческого происхождения включали в свои книги множество «примеров» из истории и мифологии. Многие «парадигмы» в Риторике Козьмы были составлены им самим и представляют его как интересного, до сих пор не изученного писателя барочной эпохи [Там же]. Почти все они вошли в неизменном виде в Риторику-свод. Тематика некоторых примеров из русской истории объясняется греческим происхожением автора (например, красочно описанный сюжет о прибытии сестры византийского императора Василия I царевны Анны в Корсунь), а также обстоятельствами его пребывания в России. Поскольку он жил в московском Чудо-вом монастыре, в его риторику оказались включены примеры о митрополите Алексие («шипке багряноличном»), придел во имя которого находился в этой обители: «Тебе глаголю, о царице Москво, тебе глаголю, о мати градов: видиши ли сего Алексиа митрополита, твоего чюдотворца? Вем, яко видиши, в недрах своих имущи…» 7. Воспеваются и «град Москва», и «славная Россия» в целом. Патриотический пафос подкрепля- ется рассказами из исторического прошлого – от подвигов первых русских князей до Петра I.
Пристальное внимание уделяется событиям Смуты, осуждается поведение незаконно претендовавшего на престол «ложного царевича» Григория Отрепьева. Затрагивается тема русско-турецких столкновений, в частности совсем недавние события Азовского сидения. Последнему посвящен пример «на счисление частей», включенный и в Риторику-свод. Последовательно описаны все этапы (части) «наших благополучия и храбрости, тех же, сиречь, озовских, беды и печали». Образно представлено, как «его царскаго величества быстропарным устремлением» налетели «витязи (храбры), иннии Ахиллеи, иннии Агамемноны» и одержали победу. «Таковая сила благовернаго нашего государя, таковая храбрость московских сил». Панегирический пафос не противоречил политической позиции выговских староверов, узаконивших моление за царя и в целом ряде своих сочинений выразивших лояльное отношение к царской власти [Гурьянова, 1988. С. 17–60]. И в этом, и в ряде других сюжетов в Риторике Козьмы прославляются Петр Великий и его деяния, и эти парадигмы переписывались выговца-ми. И мы читаем в Риторике-своде парадигму «на боговенчанного Сампсона»: «Что помышляете, безбожнии агаряне, о боговенчанном и крестоносном нашем государе царе? Мните ли, яко подобен есть прочым земным царем? Не лститеся, о окаяннии! Сей бо наш благочестивый царь есть паче царей земли» 8.
Все риторики конца XVII – начала XVIII в. отражают идеи просвещения. Апология учености и презрение к невежеству прослеживаются по многим статьям и парадигмам риторик Софрония и Козьмы [Гурьянова, 1998. С. 123]. Ученый противопоставляется безумцу, неучу и в тех примерах, что составлены самими авторами поморских риторик. Поскольку одна из функций рито-рик – учебная, дидактическая, любовь к учению, к освоению «риторской мудрости», которая оценивалась как «любомудрие», внушается и юным адресатам риторик: «Даждь усердие, Христе Царю славы, отроком российским, к душеполезней сей книзе! Даждь любовь словенским детем ко учению и разумению дражайшаго сего вежества! Даждь им рачение неугасное, да сподобятся древлим восточныя Матере своея светилом. Даждь им неотвратное устремление до весе-лаго верха дошедши учений, чрез тое и тебе желания царя безбедно и благонадежно дос-тигнути…» 9 Парадигма на «епанафору» провозглашает изучение книг и художеств единственным достойным путем, несущим не только пользу, но и счастье, и истинное веселье «новоцветущему и мягконоготному юноше»: «Хощеши ли, о младый юноше, путь истинный познати и жизнь веселую и безбедную обрести? Книгам учись. Желае-ши ли красоту свою и доброту юнственную бес порока хранити? Писанию учися. Лю-биши ли разум светлый и язык сладкий име-ти? Мудрости учися. Хощеши ли неисто-щаемо богатство и сокровище получити? Наукам учися…» 10. Эта тема найдет поэтическое выражение в силлабических виршах, приписываемых Андрею Денисову:
Увеселение есть юноши премудрость, в ней же пребывающа, не приимет скучность.
Смирение юнаго вельми украшает, чистота в премудрости зело позлащаетъ. Удобрит любомудра житие покорно, егда пребывает той в любви незазорно. Беда велика юным, своя их тем воля, Откуду приходит имъ зазорна неволя. Добро есть учащимся страхъ Божий имети,
Ум и руце в молитве ко богу воздети. Да в доброучении себе позлащают, В смирении покой, мир, радость стяжавают 11.
Парадигмы из риторик Козьмы и Софрония отразили идеи, переосмысленные и по- пулярные в культуре барокко. Так, библейский взгляд на Божий мир как на прекрасное, совершенное творение, знакомый по Шестодневам, по Толковой Палее, обретает типично барочное звучание: «Око вселен-ныя есть солнце, зане видит не иным светом, токмо солнечным, есть красота естества, зане не бы могла тварь показати своей доброты, кроме солнца. Есть радость миру, понеже без сего был бы весь погружен в темности. Есть доброта небеси, зане разно-шарописует е своими лучами и светом своим все покрывает…». Но, стоит солнцу зайти, как «ходиши по земли и на каждую стопу боишися, дабы не сретил еси смерть. И вкратце, мир весь бывает страшный лави-ринф (курсив мой. – О. Ж.) и паче достоит нарещися гроб, нежели селение живущих человеков» 12. Мир предстает как лабиринт (одна из популярных барочных идей), подчеркивается контраст между солнечным светом и тьмой, жизнью и смертью.
Известная по Библии тема бренности земной жизни в «примере» на «еротисис» («вопрошание») заставляет вспомнить о мотивах монолога Гамлета: «В землю, на ней же стоиши, воззри, человече, и рцы мне, молю тя, не от сея ли еси взят, не из сея ли создан рукою безсмертною, не из сея ли и все естество человеческо взято. <…> Воззри и разсмотри прилежно, и скажи ми, аще по-знаваеши, ис коего места царь и князь, ис коего же ли раб и поселянин, ис коея страны благородныи и богатый, яко крилома горе летящии, и откуду же злорадныи и нищий, откуду прекрасный и благозрачный… отку-ду же смрадныи и червьми кипящии, не вси ли от тоя же персти создашася, не вси ли от того же брения» 13. Этот барочный мотив – vanita vanitas – звучит в сочинениях Андрея Денисова [Журавель, 2010. С. 108–115]. Нашло отражение в риториках и известное по раннехристистианской и гуманистической антропософии представление о человеке как о микрокосме, изоморфном макрокосмосу 14. Ряд парадигм в Риторике-своде, вошедших затем в Слово о человеке Андрея Денисова и основанное на нем Слово Семе- на Денисова 15, посвящен прославлению «предивного величества человека». Человек понимается в них как «другии Божия творения предивный мир, всего великаго мира в себе пресветло изъявляя, истее рещи, царь создания, владыка твари, обладатель обла-даемых, Господь вещественнаго мира» 16.
Рассматриваемые сборники предлагают множество примеров риторизации агиографии в духе нового времени. В них видно и характерное для барочной проповеди стремление вызвать эмоции, заинтересовать слушателей. Известно, что Козьма Афонои-верский переводил на греческий язык Киево-Печерский патерик [Лопарев, 1907. С. 150]. Видимо, это стало причиной того, что в его книгу, а затем и в Риторику-свод попали «примеры» о знаменитых святых этой обители. Подчас под пером барочного автора сюжеты патерика обретали неузнаваемые черты. Так, в Риторику-свод вошел переработанный Козьмой сюжет о духовном подвиге Моисея Угрина, отстоявшего свою чистоту в жесткой схватке со знатной полькой 17. Лаконичные эпизоды патерика превратились в развернутую живописную сцену, поскольку пример о Моисее должен был иллюстрировать риторический прием «ипо-типосис», автор, использовавший его, добивался максимального правдоподобия: «…что-либо описуя, повествует толико явственно, яко всяк чтя или слыша повесть, возмнит, очевидно присутствуя, видети деемое» 18.
Козьма сравнивает искусительницу не только с женой Пентефрия (библейские реминисценции присутствуют и в Патерике), но и с Афродитой, Моисея Угрина – не только с ветхозаветным Иосифом, но и с Гераклом «Ираклием», с Одиссеем, вышедшим невредимым из всех испытаний, устро- енных женщинами на его пути. Красота польской «болярыни» в описании автора риторики достойна полотна художников Ренессанса, он не скупится на яркие детали и весьма откровенные подробности, сопровождающие искушение: «Егда не возможе ляцкая болярыня прелстити и победити сил-нейшаго и поистинне адамантнаго Моисея, ниже ласканми, ниже богатством, ниже обещанми, ниже прещенми, ниже биенми, ниже различными муками, конечно, что вымышляет? Одр свой отроком повеле украсити и постелю мягкозлатотканную разстилати, яже возсияваше убо от злата, благовонствоваше от арамат, ослабеваше же касающихся от мягкости и вся Афродитою разноухаше, сама же тело свое от риз обнаживши, миры же и ароматы помазавшися, легкою и белою ногою вскочи на одр и светлым лицем от радости ляже на постелю. Оле блисташе плоть ея белостию, украша-шеся власы, яко лучи солнечными, о персех ея сосца яко лимоны или яблока висяху, вся мировонствоваше и мсхусоюхаше и, по притче, вся всею Аравиею дышаше и рачением к добльственному Моисею, яко раз-женное железо лежаше, и «что ми жизнь, что ми богатство» себе самей глаголаше, «аще Моисеовы красоты не насыщуся»? 19
Коварная обольстительница едва ли не способна вызвать сочувствие, однако тем большее восхищение вызывает стойкость юноши: «Что зде мните, о, слышателие мои? Что непщуете? Еда ли ослабе доблествен-ный? Еда ли добротами прочими Афродиты стрелами уязвися? Ни, ни, ни, глаголю, но посрамися Афродита, истощи стрелы своя скверный бог рачения, умертвися треглав-ный Кервер и показася Моисей наш новый Ираклий церкве безбасненно: лежаше бо на скверней жене доблственно, поистинне яко драгий адамант, ничим же побеждаем» 20.
Как уже отмечалось, в Риторике Козьмы затрагивались и вопросы современности, эпохи правления Петра. Среди самых злободневных – вопрос о старообрядцах. Анти-старообрядческие «парадигмы», оформленные по соответствующим риторическим правилам, подверглись редактированию со стороны выговцев при составлении Риторики-свода. О том, что эти примеры были переделаны Семеном Денисовым, писал еще
Гр. Яковлев [1888. С. 109]. Н. В. Понырко справедливо отметила, что выговские списки Риторики Козьмы включают эти «примеры» в неизменном виде, а вот Риторика-свод содержит уже вместо антистаро-обрядческих «антиниконианские» примеры [Понырко, 1981. С. 160].
Сохранение антистарообрядческих «примеров» в выговских списках риторики Козьмы может быть объяснено бережным, чрезвычайно уважительным отношением выгов-ских переписчиков к книге [Гурьянова, 2007]. Все поморские сборники, содержащие риторику Козьмы, выполнены на высоком уровне книгописного мастерства и не подвергают правке сочинение афоноивер-ского старца. Среди них – сборники РНБ, О.XV.14, XVIII в. (1-я половина), л. 42 – 243 об. 21, РНБ, собрание Погодина, № 1659, XVIII в. (1-я четв.), л. 222–260 22, РНБ, О.XV.13, XVIII в. (2-я половина), л. 1–165 23, РГБ, собрание Егорова, № 1626, XVIII в. (20–30-е гг.), л. 1–166 24.
Однако не во всех поморских списках риторики Козьмы антистарообрядческие «парадигмы» остались нетронутыми. Отметим одну рукопись, где последовательно пропущены именно эти примеры. Это сборник БАН, 21.8.5 (Северное собр., № 644). В. И. Срезневский считал, что рукопись написана Андреем Денисовым [Срезневский, 1913. С. 206.], В. Г. Дружинин атрибутировал ее руке Семена Денисова [Дружинин, 1915. С. 8–9], Н. В. Понырко пересмотрела этот вопрос и сочла обе точки зрения ошибочными, в случае же с В. Г. Дружининым высказывая предположение, что здесь имела место путаница списков. По мнению Н. В. Понырко, «данная рукопись не имеет никаких других признаков, которые могли бы говорить об ее выговском или поморском происхождении» [1981. С. 156]. Однако, оставляя в стороне кодикологический анализ рукописи, требующий отдельного изучения, отметим, что список содержит неопровержимое доказательство в пользу его, во всяком случае, старообрядческого происхождения. Так, после главы «О марти- рии или свидетелстве» перед разделом «О клятве» л. 73 об. – 74 об. остались чистыми. На этом месте должна быть «Парадигма на российское православие, яко всем известно есть». Парадигма «на раскольников» (к разделу «На муки») исключена, после раздела «О решении» перед главой «О эпилозе» должна идти парадигма «Пре-станите, молю, любезнии братие расколни-цы», здесь же л. 106 – 106 об. чистые. Из «Иповоли, яже подтверждение» (л. 161 об.) исключен риторический выпад «Расколниче и вертопраше староверче», сразу же следует переход к главе «О эпанорфосисе». После главы «О ипомони, или терпении» приводится парадигма о Голгофе, заканчивающаяся на л. 182, а после нее – чистая оставшаяся часть л. 182 и 182 об. – 183. На этом месте в Риторике Козьмы помещена обличительная парадигма о покушении старообрядца на патриарха Никона. Чистое место осталось и на л. 184 об.–185, после раздела «О анакоиносисе», где также в первоисточнике следует антистарообрядческая парадигма.
Что же касается редактирования антиста-рообрядческих «парадигм», предпринятого авторами Риторики-свода, о котором упомянула Н. В. Понырко, то оно заслуживает более подробного рассмотрения.
Первая из этих «парадигм» направлена против сторонников старого обряда, которые отождествляются автором с «капитонами», или «лесными старцами», последователями учения Капитона, вставшего в оппозицию по отношению к православной церкви уже в 30–40-е гг. XVII в. Отождествление легко объяснимо: сторонник крайнего аскетизма, отказывавшийся от принятия причастия, не признававший новых икон, Капитон вызвал осуждение со стороны официальных властей, но обрел популярность у староверов. В «Винограде Российском» Семена Денисова он прославляется как святой, обладавший пророческим даром [Зеньковский, 1995. С. 144–156]. Инвектива иеродиакона Козьмы перенаправлена авторами Риторики-свода в адрес сторонников ереси, возникшей помимо движения старообрядчества – хри-стовщины, позднее известной как хлыстовщина. И этот полемический ход понятен, поскольку уже ранние расколоучители, такие как инок Авраамий, протопоп Аввакум, а затем Евфросин подвергли резкой критике секту «христов», возникшую в 1670-е гг.
под влиянием европейских мистических учений [Зеньковский, 1995. С. 477–485; Панченко, 2002]. Поменяв адресатов, старообрядче- ские авторы сохраняют полемический пафос, воспользовавшись всеми риторическими приемами первоисточника (табл. 1).
Таблица 1
|
На раскольников, яко всем явна их прелесть (Риторика Козьмы) |
На еретиков, яко всем явна их прелесть (Риторика-свод) |
|
Глаголемии капитоны или расколницы, веел-зовулучении волсви суть прелестницы, диа-волоугоднии и блудницы, не токмо безсло-веснии, но и адохотнии! Сия пишу и глаголю не ложно или басненно, но истинно, яко стоя пред Богом…* |
Еретицы глаголемии христовщина, или паче рещи антихристовщина, веелзовулучении волсви суть прелестницы, диаволоугоднии и блудницы, не токмо безсловеснии, но и адо-хотнии. Сия пишу и глаголю не ложно или баснено, но истинно, яко стоя пред Богом…** |
* РНБ. О.XV.14. Л. 112.
** БАН. Собр. Дружинина, № 122. Л. 98 – 98 об.
Далее в этом примере Козьма ссылается на авторитетных лиц, свидетельствующих против раскольников. Среди них – деятели православной церкви, какое-то время разделявшие идеи раскола, но затем осознавшие их неправоту и вставшие на праведный путь. В частности, названо имя Афанасия Холмогорского 25. Эти пассажи переносятся в Риторику-свод, но имена выпущены, заменены на «имярек».
Почти буквальное следование риторическому образцу с последовательной заменой значимых полемических позиций отличает и два других «примера». Парадигма Козьмы на «иповоли», разновидность риторического вопроса («еже самоотвещание глаголется творит ритор, егда вопрошает купно и от-вещает, не ожидая от иного ответа»), начинается следующими словами: «Крамолниче и вертопраше староверче, что смущаеши души препростых, негли речеши ми: “Не смущаю, но к Богу наставляю”, и чем на-ставляеши, разумом ли своим?» 26. Аналогичный пример из Риторики-свода обращает полемический пафос против сторонников никонианских новин: «Ревнителю и побор-ниче новыя веры, что смущаеши души препростших человек, негли речеши: “Не смущаю, но к Богу наставляю”, и чем на- ставляеши, разумом ли своим?» 27. И сторонник официального православия, и старообрядцы ведут критику с позиций разума, обвиняя друг друга в безумии. Основные же пункты антистарообрядческой полемики – вопросы о неприятии ими новых книг, о двоеперстии, о сугубой аллилуйе – превращаются в аргументы, хорошо известные по полемике антиниконианской (табл. 2).
Из приведенных параллельных примеров видно, что Козьма в вопросе об аллилуйе, иронизируя над авторитетами староверов, упоминает имя Евфросина. Судя по всему, речь идет о преп. Евфросине (1386 ? – 1481), который вошел в историю русской церкви, в частности, как активный участник споров об аллилуйе, разгоревшихся в Пскове в середине – второй половине XV в. В житиях Евфросина он изображается сторонником «сугубой» аллилуйи. На авторитет Евфро-сина опиралось постановление собора 1551 г., отстаивая двоение аллилуйи, к его Житию обращались старообрядцы. Однако сторонниками церковной реформы на соборе 1666–1667 гг., постановившем троекратно возглашать аллилуйю, Житие Евфросина подверглось резкой критике и осуждению. Отголоски этой критики звучат и в Риторике Козьмы: он подверг сомнению даже личность Евфросина, причисленного на соборе 1549 г. к лику святых, основываясь на со-
27 БАН. Собр. Дружинина, № 122. Л. 187 об. – 188.
мнительности посвященного ему агиографического сочинения: «Евфросин бе, и кто Евфросин? Василий ли Великий, или Григорий Богослов? Почто повесть о нем разная?» Очевидно, автору тирады был известен факт существования разных версий Жития. Одна была написана неизвестным автором и посвящена почти целиком проблеме аллилуйи, другая написана псковским агиографом Василием-Варлаамом [Охотникова, 2007. С. 5-44].
В полемике обеими сторонами для доказательства догматов о кресте и об аллилуйе использовано имя Максима Грека. Установлено, что сочинения преподобного использовали и представители официальной церк- ви, и староверы, что объясняется двойственностью его творческого наследия [Шашков, 1979]. Как известно, старообрядцы Вы-га возвели ученого афонца в число главных авторитетов. Разоблачив подлог, к которому прибегли сторонники церковной реформы, «исправившие» соответствующие места об аллилуйе в одной из рукописей Максима Грека, они опирались в своих догматических построениях на его сочинения [Шашков, 1977].
Гневной антиниконовской тирадой возразили авторы Риторики-свода и на третью парадигму, на «анакиносис» (прием, требующий «совета иных и разумения») (табл. 3).
Таблица 2
Риторика Козьмы почто в церковь не входити увещеваеши? От сем ли, яко по новым книгам священницы молятся? И что сие вредит? Негли речеши, душепагубны суть, но есть сие, инаго ли Бога проповедуют новыя книги? Речеши никако!
что же и кресте сумневаешися, иныя блаз-ниши, яко не по твоей прелести двема пер-стома, но по древнему преданию тремя первыми десныя руки персты крестимся, и кое сих лучше, твоя ли прелесть, или древнее предание? Речеши древнее, но еже сие вем, яко не веси, слеп бо еси <_>
Что же о аллилуиа, чесо ради не трижды, но дважды глаголати увещеваеши? Речеши ли, тако подобает, кто тя увеща? Евфросин бе, и кто Евфросин? Василий ли Великий, или Григорий Богослов? Почто повесть о нем разна, не имаши что отвещати? <_>
Максим ли Грек о сем ти написа, ей речеши? Кто бе Максим? Не грек ли? Но како грецы крестятся, не треперстно ли? <_> Вразумися, вразумися, и престани на высоту Божию и на праведна хулу глаголати .
Риторика-свод почто древлее благочестие соблюдающих увещеваеши проклинати и изгоняти отвсюду, сего ли ради яко по старым книгам они древнее благочестие соблюдают, и по ним Богу службу приносят, и что сие вредит? Негли речеши, душепагубны суть, но несть сие, несть, инаго ли Бога проповедают старыя книги? Речеши никако! <...> что же и кресте сомневаешися, и инныя в сомнение приводиши, яко не по твоему мудрованию трема персты, но по древнему преданию святых отец двема персты десныя руки крестимся и кое сих лучше, твое ли новое мудрование и церкви святей противное, или древнее предание? <^>
Что же о аллилуии, чесо ради не дважды, но трижды глаголати увещаваеши, речеши ли, тако подобает, кто тя увеща? Никон ли, и кто бе Никон? Василий Великий, или Григорий Богослов, или Иоанн Златоуст? Не имаши о сем что отвещати <_>
Максим ли Грек о сем ти написа, речеши? Но Максим противно противному твоему само-мненному мудрованию, согласно же древнему святых отец преданию написа. <^> Вразумися, вразумися, и престани на высоту Божию стреляти, и на святых Божиих угодников лгати и хулити их .
* РНБ. G.XV.14. Л. 204 об. - 205.
** БАН. Собр. Дружинина, № 122. Л. 187 об. - 189.
Таблица 3
Риторика Козьмы
Проклятии расколники , сиречь схимматики, и иннии сим подобнии прелестницы, мутяще люд Божий, честною Христа кровию стяжанный, сами беззаконно живуще и безумни творяще, учат двоеперстно креститися, благословения не требовати, святых таин лиша-тися, церкве удалятися, крестом и святою водой гнушатися и ина беззаконна и противна церкви святей восточней. Убо от вас требую совета, о други, вас вопрошаю, рцыте ми, достоит ли сих проклятых сыны нарещи матере нашея, восточныя церкви, леть нам братию себе их назвати? Вем, яко речете, ни, ни, понеже во всем нам супротивни и несо-гласни…*
Риторика-свод
Новоизобретенных преданий теплии поборницы, Никон, и иже ему последствующии, мятущеся и мятуще люд Божий, честною Христа кровию стяжанный, сами безместны-ми ношенми обуреваеми, неизвестная и всем сомнителная предания предающе, учат тре-перстно креститися, пятию персты благо-словляти, аллилуиа четверити, пять просфир на литоргии имети, крест Христов трисо-ставный отметати, вся же древлецерковная предания чины и уставы отвергати и прокли-нати, и ина безчисленная и несогласная церкви святей восточней, рцыте ми, молю, рцыте, достоит ли сих своесмышленная и своеразсудителная предания приимати, и их за истинныя учители имети и во всем их по-слушати и общатися им? Вем, яко речете, ни, ни, понеже они во всем нам противны и несогласны…**
* РНБ. О.XV.14. Л. 231 об. – 232.
** БАН. Собр. Дружинина, № 122. Л. 219 об., 221.
Изучение иллюстративного материала рукописных сборников, содержащих риторики, позволяет рассматривать последние не только как руководства к составлению проповедей, предлагавшие новые модели, принципы организации литературного материала. Они выполняли функции и своеобразных четьих, и полемических сборников, составляя часть рукописного наследия вы-говских старообрядцев и отражая культурные тенденции, которые были свойственны народно-христианской книжности на важном этапе ее развития.
«EXAMPLES» FROM RHETORIC
AND THE LITERARY CULTURE OF THE VYG OLD-BELIEVERS