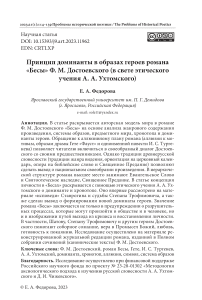Принцип доминанты в образах героев романа «Бесы» Ф. М. Достоевского (в свете этического учения А. А. Ухтомского)
Автор: Федорова Елена Алексеевна
Журнал: Проблемы исторической поэтики @poetica-pro
Статья в выпуске: 1 т.21, 2023 года.
Бесплатный доступ
В статье раскрывается авторская модель мира в романе Ф. М. Достоевского «Бесы» на основе анализа жанрового содержания произведения, системы образов, предметного мира, хронотопа и доминанты героев. Обращение к аллюзивному плану романа (аллюзии к мотивам, образам в трагедии Гете «Фауст» и одноименной повести И. С. Тургенева) позволяет читателю включиться в своеобразный диалог Достоевского со своими предшественниками. Однако традиции древнерусской словесности (традиции жанра видения, ориентация на церковный календарь, опора на библейское слово и Священное Предание) позволяют сделать вывод о национальном своеобразии произведения. В иерархической структуре романа высшее место занимают Евангельское Слово и Святоотеческое наследие, Священное Предание. В статье концепция личности в «Бесах» раскрывается с помощью этического учения А. А. Ухтомского о доминанте и хронотопе. Оно впервые рассмотрено на материале «исповеди» Ставрогина и судьбы Степана Трофимовича, а также сделан вывод о формировании новой доминаты героев. Значение романа «Бесы» заключается не только в предупреждении о разрушительных процессах, которые могут произойти в обществе и в человеке, но и в изображении путей выхода из кризиса и восстановления личности. В частности, Шатову, Степану Трофимовичу и другим героям Достоевского помогают соборное сознание, вера в Промысел Божий, любовь, готовность к покаянию. Исследование осуществлено на материале реконструированной журнальной редакции романа, изданной в Полном собрании сочинений (канонические тексты) Ф. М. Достоевского.
Ф. м. достоевский, роман бесы, гете, и. с. тургенев, а. а. ухтомский, доминанта, хронотоп, аллюзия, символ, система образов
Короткий адрес: https://sciup.org/147239845
IDR: 147239845 | DOI: 10.15393/j9.art.2023.11962
Текст научной статьи Принцип доминанты в образах героев романа «Бесы» Ф. М. Достоевского (в свете этического учения А. А. Ухтомского)
Р оман «Бесы» (1872) — одно из самых сложных произведений Ф. М. Достоевского. До сих пор его издатели и исследователи сталкиваются с проблемой выбора редакции романа. Под давлением редактора «Русского вестника» М. Н. Каткова писатель был вынужден исключить из журнальной версии «Бесов» главу «У Тихона» в связи с ее «нецеломудрием». Перед публикацией Достоевский предпринял попытку переработать главу, но и адаптированный вариант был отвергнут редакцией. В прижизненное книжное издание 1873 г. она также не вошла, оставшись пропущенной. Сохранились три редакции «У Тихона»: это гранки декабрьской книжки «Русского вестника» 1871 г., соответствующие первоначальной рукописи; правка на гранках, отражающая процесс творческой переработки текста; список — копия, сделанная А. Г. Достоевской с неизвестного источника и выполненная не полностью.
В настоящее время история исключенной из романа главы интересует многих исследователей (см., напр.: [Тарасенко]). В. Н. Захаров утверждает, что глава «У Тихона» является центральной: «Достоевский считал исповедь Ставрогина кульминационным эпизодом романа, который не только раскрывает "тайное тайных" в судьбе Ставрогина, но и ставит диагноз его духовной болезни, проясняет сюжетные мотивы и характер героя, а неудача его исповеди Тихону мотивирует будущие эксцессы романа» [Захаров: 681]. На основе всестороннего текстологического изучения рукописей, прижизненных публикаций и архивных источников в Полном собрании сочинений (канонические тексты) была подготовлена редакция романа «Бесы» с включенной главой «У Тихона», которая позволяет реконструировать авторскую концепцию мира и личности1.
Выйти к пониманию духовных процессов, описанных в романе, может помочь этическое учение русского физиолога и религиозного мыслителя Алексея Алексеевича Ухтомского (1875–1942), создателя теории доминанты и закона «заслуженного собеседника», который он сформулировал на материале произведений Достоевского — повести «Двойник» и романа «Братья Карамазовы». Современной науке о Достоевском имя А. А. Ухтомского известно благодаря работам В. Е. Хализева [Хализев], Н. Т. Ашимбаевой [Ашимбаева], Е. А. Федоровой [Федорова, 2016], В. Ю. Даренского [Даренский]. Однако к анализу романа «Бесы» с помощью методологии А. А. Ухтомского исследователи до сих пор еще не обращались.
Этическое учение Ухтомского позволяет моделировать картины мира героев романа Достоевского и раскрывать авторское отношение к этим моделям. Для этого необходимо анализировать не только предметный мир произведения [Чудаков], но также использовать понятие хронотопа и доминанты личности как главенствующего направления деятельности, которая располагается между мыслями человека и действительностью. Если согласиться с тем, что «принцип доминанты является физиологической основой акта внимания и предметного мышления » [Ухтомский: 39], то следует сделать акцент на символизации предметного мира героев Достоевского. Ухтомский считал, что «всякий интегральный образ, которым мы располагаем, является достаточным продуктом пережитой нами доминанты» [Ухтомский: 61]. Значительную роль в концепции личности мыслителя играет хронотоп: «…математическое пространственно-временное воззрение с его едва заметными началами чувствований характеризуется как высшей объективностью, так равно и наибольшей сложностью» [Ухтомский: 20]. Траектория в хронотопе личности состоит из предметных образов, связанных с доминантами [Ухтомский: 43]. Очевидно, что суммирование доминанты происходит во времени во многом благодаря значимым для личности событиям [Ухтомский: 89].
В данном исследовании мы остановимся на «траектории в хронотопе личности» главных героев романа — Николая Ставрогина и Степана Верховенского, поскольку именно они показаны в развитии. Нашей задачей является не только рассмотрение разрушительных процессов, происходящих в них, но и выяснение возможностей восстановления этих личностей, формирования новой доминанты у этих героев. Прежде всего обращают на себя внимание пейзажи, связанные со Ставрогиным и Верховенским, некоторые из них содержат аллюзии к произведениям предшественников Достоевского — И.-В. Гете и И. С. Тургенева.
Западноевропейские источники романа «Бесы» достаточно подробно исследовал Л. П. Гроссман, которого особенно интересовала исповедь Ставрогина [Гроссман]. Тема «Достоевский и Гете» — одна из самых разработанных в зарубежной науке [Doblin], [Kostovski], [Potapova]. О влиянии на роман Достоевского «Фауста» Гете писали Вяч. Иванов [Иванов], Т. Г. Масарик [Masaryk], А. Л. Бем [Бем], И. З. Серман [Серман], однако в этих работах не была проведена параллель между пейзажами Гете и Достоевского. Особенный интерес к роману «Бесы» возник в критике серебряного века [Казакова]. Вяч. Иванов назвал Ставрогина «русским Фаустом» и заметил, что роль Мефистофеля играет Петр Верховенский, исследователь провел параллель между Гретхен и Хромоножкой [Иванов: 441]. Заметим, что аллюзии к «Фаусту» возникают в связи с образом не только Ставрогина, но и Степана Трофимовича. В «Фаусте» шабашу ведьм предшествует описание Вальпургиевой ночи:
«Держись сильнѣй за ребра скалъ, А то какъ разъ съ утеса внизъ умчитъ. Мрачность ночную сугубитъ туманъ; Слышишь, какъ воетъ въ лѣсу ураганъ? Какъ онъ встревожилъ врановъ и совъ, Какъ онъ столбы разшибаетъ Вѣчно-зеленыхъ дворцовъ, Корни изъ нѣдра земли вырываетъ, Мощные стебли валитъ, Вѣтви мятетъ и дробитъ»2.
Туман, ветер, мрак — эти особенности пейзажа Вальпургиевой ночи фиксирует Хроникер в романе, поскольку они связаны с катастрофическими событиями в городе, с разгулом разрушительных сил. После встречи Ставрогина с Шатовым и Кирилловым Хроникер отмечает: «Темень и дождь продолжались попрежнему» (673–706); перед дуэлью Ставрогина с Гагановым было «мокро, сыро и вѣтрено», «деревья густо и перекатно шумѣли вершинами и скрипѣли на корняхъ сво-ихъ» (271). Перед убийством Шатова Хроникер пишет о «суровом осеннем вечере», «мраке» и ветре, который «колыхалъ верхушки сосенъ» (597, 599). Наконец, перед смертью жены Шатова и ее ребенка рассказчик замечает: «Утро было сырое, стоялъ туманъ» (662). Мир в романе Достоевского показан во власти демонических сил. Тишина наступает после кульминации — пожара в Заречье. Слышит эту тишину и видит мрак ночи Лиза Тушина в Скворешниках, словно она находится внутри этого страшного мира. Лиза смотрит на зарево пожара в Заречье и замечает Ставрогину, что «должно свѣтать, а почти какъ ночь», а после его ухода из дома видит «дымную, свинцовую, безразличную массу», от которой отделяется Степан Верховенский, идущий ей навстречу (525, 541).
В философском романе Достоевского, как и в драме Гете, содержится символический подтекст. В «Прологе на небесах» говорится о тумане в душе Фауста:
«Теперь еще туманенъ онъ душой, Но скоро Богъ ее одѣнетъ свѣтомъ…» ( Гете ).
Достоевского интересует «Фауст» Гете, поскольку в этом произведении наиболее полно воплощена динамическая концепция личности. Кроме того, в романе Достоевского можно обнаружить рецепцию повести И. С. Тургенева «Фауст» (1856), которая была опубликована в журнале «Современник» вместе с переводом драмы Гете А. Н. Струговщикова. В первом письме героя передается деталь пейзажа, которая есть и в романе «Б есы»
и связана со Степаном Трофимовичем: «Мелкий дождь сеет с утра»3. Во втором письме рассказчик признается: «…точно туман бродил в душе» ( Тургенев : 99). Перед чтением «Фауста» рассказчику и Вере неожиданно является ветер в саду: «В это мгновение из саду пронесся шум листьев, внезапно поколебленных налетевшим ветром» ( Тургенев : 108). Объяснение героев происходит в канун праздника Рождества Богородицы — 7 сентября ( Тургенев : 122) (в романе «Бесы» события происходят после этого праздника). Героиня повести Вера повторяет слова из «Фауста» о «мгновении», а перед смертью цитирует слова Гретхен из сцены в тюрьме, когда та видит в Фаусте Мефистофеля ( Тургенев : 124–125). Эта ситуация обличения героя коррелирует со сценой разоблачения Ставрогина Хромоножкой [Иванов: 441], о «мгновении» жизни напомнит Ставрогину в Скворешниках Лиза.
М. В. Педько, утверждая, что в романе «Бесы» Достоевский «вводил гетевские литературные прообразы во внутреннюю структуру образов героев» [Педько: 19], считает, что в Ставрогине внутренней метаморфозы не происходит [Педько: 13]. Заметим, что Николай Ставрогин — воспитанник Степана Верховенского, которому удалось развить в нем рефлексивное начало:
«Когда его, по шестнадцатому году, повезли въ лицей, то онъ былъ тщедушенъ и блѣденъ, странно тихъ и задумчивъ. <…> Степанъ Трофимовичъ сумѣлъ дотронуться въ сердцѣ своего друга до глубочайшихъ струнъ и вызвать въ немъ первое, еще неопредѣленное ощущенiе той вѣковѣчной, священной тоски которую иная избранная душа, разъ вкусивъ и познавъ, уже не промѣняетъ потомъ никогда на дешевое удовлетворенiе» (40).
Вместе с тем Николай Ставрогин отличается безудержностью своей физической природы, чрезвычайной телесной силой (43). Во время военной службы в Петербурге он получил известность благодаря слухам «о какой-то дикой разнузданности, о задавленныхъ рысаками людяхъ, о звѣрскомъ поступкѣ съ одною дамой хорошаго общества» (41). По поводу вернувшегося в свой родной город Ставрогина рассказчик замечает, что «звѣрь показалъ свои когти», а затем «вдругъ выпустилъ» их (43, 44). Наконец, в своей исповеди Ставрогин признается в «звѣриномъ сладострастiи, которымъ одаренъ» (721). Мощные природные инстинкты и сильно развитое рефлексивное начало (он быстро и сильно реагирует на окружающее) становятся внутренней проблемой героя, над которой ему нужно постоянно работать.
-
В . М. Димитриев, опираясь на сравнение исповеди Ставрогина с «прикушенным губернаторским ухом в другом только виде» в списке А. Г. Достоевской [Тарасова, Кибальник, Димитриев: 128], на которое указал Арн. Ковач, утверждает, что эта реакция героя свидетельствует о вызревающем в нем внутреннем перевороте. Анализируя последовательность образов во сне и «видении» Ставрогина, исследователь называет невозможность для героя забыть образ Матреши «сопротивлением памяти» [Тарасова, Кибальник, Димитриев: 123].
Детали предметного мира, которые воспринимает Ставрогин, значимы тем, что показывают, как в герое происходит формирование новой доминанты (по Ухтомскому), которая свидетельствует о сохранившихся ценностях в его душе и о «пороговом» состоянии героя. В исповеди Ставрогина во время совершения преступления используется минус-прием. Когда происходит самоубийство Матреши, герой сидит у окна, но он не видит пейзаж за окном, а слышит только звуки: жужжание мухи, грохот телеги, песню мастерового. В журнальной редакции герой даже поймал жужжавшую муху, которая садилась ему на лицо, и выпустил в окно (422). В одной из редакций главы отмечается, что у окна «роковая мысль скользнула» в уме героя (810). Внимание Ставрогина привлекает одна предметная деталь: крошечный красный паучок на листке герани (423). Эта деталь появится после сна Ставрогина, когда он увидит «золотой век».
Отметим, что во сне героя показана картина не реального мира, а пейзажа, изображенного на картине Клода Лоррена «Ацис и Галатея». Можно утверждать, что в Ставрогине пробуждается культурная память. По мнению А. А. Ухтомского, «память следует считать подвижным фондом, от которого отправляется, которым руководится и на котором строится текущая нервная жизнедеятельность и животного и человеческого сознания» [Ухтомский: 230]. Первая фаза формирования устойчивой доминанты, по Ухтомскому, — «косые лучи заходящего солнца». Ставрогин признается в исповеди:
«…скалы и море и косые лучи заходящаго солнца, все это я какъ будто еще видѣлъ когда проснулся и раскрылъ глаза, въ первый разъ въ жизни буквально омоченныя слезами» (426).
«Заходящее солнце» становится символом потерянной гармонии.
Ухтомский описывает вторую фазу формирования доминанты как «стадию предметного выделения данного комплекса раздражителей из среды» [Ухтомский: 41]. В романе повторяется хронотопическая ситуация — закат солнца и его косые лучи в окне:
«Былъ уже полный вечеръ; въ окно моей маленькой комнаты, сквозь зелень стоящихъ на окнѣ цвѣтовъ прорывался цѣлый пукъ яркихъ косыхъ лучей заходящаго солнца и обливалъ меня свѣтомъ» (426).
В душе героя соединяется образ косых лучей заходящего солнца с образом красного паучка и образом обиженного им ребенка:
«Я поскорѣе закрылъ опять глаза какъ бы жаждая возвратить миновавшiй сонъ, но вдругъ какъ бы среди яркаго-яркаго свѣта, я увидѣлъ какую-то крошечную точку. Она принимала какой-то образъ и вдругъ мнѣ явственно представился крошечный красненькiй паучекъ. Мнѣ сразу припомнился онъ на листкѣ герани когда также лились косые лучи заходящаго солнца. Что-то какъ будто вонзилось въ меня, я приподнялся и сѣлъ на постель… (Вотъ все какъ это тогда случилось!).
Я увидѣлъ предъ собою (О, не на яву! Еслибы, еслибы это было настоящее видѣнiе!) я увидѣлъ Матрешу, исхудавшую и съ лихорадочными глазами, точь въ точь какъ тогда, когда она стояла у меня на порогѣ и кивая мнѣ головой подняла на меня свой крошечный кулачонокъ. И никогда ничего не являлось мнѣ столь мучительнымъ! Жалкое отчаянiе безпомощнаго десяти-лѣтняго существа съ несложившимся разсудкомъ, мнѣ грозившаго (чѣмъ? Что могло оно мнѣ сдѣлать?) но обвиняв-шаго конечно одну себя! Никогда еще ничего подобнаго со мной не было. Я просидѣлъ до ночи, не двигаясь и забывъ время» (426–427).
Это третья фаза формирования доминанты, когда между внутренним состоянием и комплексом раздражителей устанавливается прочная связь, так что внутреннее состояние и внешний образ будут вызывать и подкреплять друг друга [Ухтомский: 41]. По существу новый «интегральный образ» становится наказанием для Ставрогина: косые лучи заходящего солнца теперь будут вызывать у него «почти каждый день» (815) образ красненького паучка и Матреши, стоящей на пороге с поднятым и грозящим герою кулачонком. Невыносимость этого образа, по признанию героя, и неготовность к покаянию приводит Ставрогина к самоубийству. Л. И. Сара-скина предположила, что впервые Ставрогину является Мат-реша в мае 1868 г., а 11 октября 1869 г. герой решается на самоубийство, т. е. полтора года героя мучает невыносимый для него образ [Сараскина: 17, 24]. Но это не видение и не галлюцинация. Ставрогин замечает в исповеди:
«Не само представляется, а я его самъ вызываю и не могу не вызвать, хотя и не могу съ этимъ жить. О, еслибъ когда-нибудь увидалъ ее на яву, хотя бы въ галлюсинацiи» (427).
У Ставрогина другие галлюцинации. Во время беседы с Тихоном он признается, что около года ему является бес (410). В. Н. Захаров отметил, что в журнальной публикации Ставрогин также сообщает Даше о посещении беса: «Я злился что мой собственный бѣсъ могъ явиться въ такой дрянной маскѣ» (280) [Захаров: 683]. Следовательно, детали пейзажа и предметного мира — заходящее солнце и порог, на котором останавливается обиженная девочка, — символизируют пределы человеческой природы Ставрогина, которые он не смог переступить, подобно Раскольникову. Отметим точное замечание С. М. Соловьева о том, что Раскольников совершает свое преступление, как и Ставрогин, на закате солнца [Соловьев: 171].
Петру Верховенскому, как справедливо заметил Вяч. Иванов [Иванов: 441], в романе отводится роль Мефистофеля. Однако ему приходится столкнуться с особенностями менталитета русского человека, которые он, воспитанный на европейских либеральных ценностях, не учел. Представителями русского мира в романе являются герои-идеологи Кириллов и Шатов, Марья Лебядкина и архиерей Тихон. Они не только воплощают в себе некоторые черты национального характера, но и являются носителями традиционных ценностей.
Кириллов — это герой-максималист, который проповедует нигилизм и атеизм и приходит к необходимости создания новой религии, где место Богочеловека займет Человекобог. Герой испытывает потребность верить, его душа жаждет гармонии и света, которые ему на мгновение открывались в пережитом когда-то видении. Он зажигает лампаду перед Образом Спасителя и читает Федьке Каторжному Откровение Иоанна Богослова. Поэтому Верховенский-младший вынужден признать, что Кириллов в Бога верует «еще больше попа» (616). Петру Верховенскому удается осуществить свое намерение приписать все преступления «наших» в городе Кириллову только потому, что Кириллов готов к самопожертвованию во имя высшей идеи. Но его последние слова, которые он цитирует из Евангелия от Луки (8:17): «…тайное станетъ яв-нымъ» (617), — свидетельствуют о его убеждении, что все планы Верховенского не осуществятся по Промыслу Божьему. Напомним, что Достоевский в своих романах выражает авторскую позицию, опираясь на Евангельскую Истину. Не случайно он передает Кириллову и Федьке Каторжному рассказ о «благоразумном разбойнике» (616).
Кроме того, в главе «У Тихона» архиерей Тихон говорит Ставрогину об атеисте, который близок к совершенной вере. Эти слова можно отнести к Кириллову:
«Совершенный атеистъ стоитъ на предпослѣдней верхней ступени до совершеннѣйшей вѣры (тамъ перешагнетъ ли ее, нѣтъ ли), а равнодушный никакой вѣры не имѣетъ кромѣ дур-наго страха» (412).
Возможно, Достоевский сознательно наделил своего героя некоторыми чертами св. Тихона Задонского, чье житие было написано Н. В. Елагиным в 1861 г.4 Из Жития следует, что фамилия св. Тихона Задонского в миру была Кириллов5, а поворотным моментом в его жизни стало переживание минуты света и радости, после которой он решил посвятить себя монашескому уединению. Текст «Жития Святителя Тихона Задонского» в редакции Крестного календаря 1867 г. как один из источников февральского номера «Дневника Писателя» за 1876 г. был обнаружен Н. А. Тарасовой [Тарасова: 303].
Шатов не только идеолог «русского пути», это человек, чья картина мира «расшатывается», трансформируется. Переданная ему Ставрогиным идея национальной самобытности и избранности народа не может перейти у Шатова в чувство, поскольку для ощущения себя «русским», т. е. «православным», ему надо поверить, а он долго не может сделать это. Пробуждение самосознания героя приводит его к отрицанию коллективизма «наших» как «завистливаго равенства, равенства безъ собственнаго достоинства» (580). Кроме того, открытость Шатова народному соборному сознанию проявляется в его потребности общения с Марией Лебядкиной. Однако не только понимание, но и переживание соборности, единения вокруг Истины, приходит к герою после возвращения жены Марии, когда в его душе пробуждаются сострадание и любовь. Доминанта личности Шатова переносится на лицо Другого. Он сострадает жене и желает ей помочь:
«Но когда она поглядѣла на него этимъ измученнымъ взгля-домъ, вдругъ онъ понялъ, что это столь любимое существо страдаетъ, можетъ-быть обижено. Сердце его замерло» (571).
Это понимают «наши»: Вергинский убеждает всех в том, что сейчас Шатов не опасен. Приобщение Шатова к таинству рождения ребенка открывает ему религиозный смысл понимания семьи как Малой Церкви:
«Было двое, и вдругъ третiй человѣкъ, новый духъ, цѣльный, законченный, какъ не бываетъ отъ рукъ человѣческихъ; новая мысль и новая любовь, даже страшно… И нѣтъ ничего выше на свѣтѣ!» (593).
В журнальном варианте автор показывает, что эти слова приходят к герою помимо разума: «Какъ будто что-то шаталось въ его головѣ и само собою безъ воли его выливалось изъ души» (592). Шатов вспоминает Слова Апостола Павла, которые звучат во время венчания, они корреспондируют с авторской позицией: Достоевский показывает путь восстановления России через семью и соборность.
Марья Лебядкина — героиня, несущая соборное народное начало, восходящее к почитанию Пресвятой Богородицы и к архаическому прошлому русского народа. Религиозное и мифологическое в ее сознании соединяются: Богородица — это «великая мать», «упование рода человеческого» и в то же время это «великая мать сыра земля» (141). Критикой ее образ воспринимается по-разному: Вяч. Иванов увидел в ней «Душу Земли русской» [Иванов: 441], а Л. И. Сараскина обнаруживает в повествовании о ее любви к Ставрогину мотивы народного сказания о связи земной женщины со змеем и даже находит в комнате Марии Тимофеевны «ведовские» атрибуты [Сараскина: 147–149]. Последнему утверждению противоречит портретная деталь: «тихие, ласковые» глаза героини, ее «почти радостный взгляд» (138).
Марья Лебядкина противопоставлена Ставрогину своим душевным состоянием радости. Она удивляется высшему обществу: «Столько богатства и такъ мало веселья» (263). Как и Ставрогин, она часто смотрит на заходящее солнце, но испытывает при этом состояние благодати. Р. В. Плетнев видит в описании того, как Марья Лебядкина воспринимает заход солнца, влияние книги «Сказание о странствовании и путешествии… инока Парфения» [Плетнев, 1986a: 177]. Можно добавить, что св. Тихон Задонский, по свидетельству Жития, молился иногда на природе, воздев руки по направлению к солнцу. Любовь к Пресвятой Богородице дает героям дар благодатных слез, о которых писал Иоанн Лествичник: «…слезы, происходящие от страха, ходатайствуют о нас; а те, которые от всесвятой любви, являют нам, что моление наше принято»6.
Л. И. Сараскина обнаруживает общее в сценах объяснения Ставрогина с Марьей Тимофеевной и архиереем Тихоном: оба испытывают «величайший испуг», прозревая преступный замысел собеседника [Сараскина: 153]. Добавим, обоих героев посещают видения, которые объясняют им, что происходит со Ставрогиным. Марья Тимофеевна говорит вначале о своих дурных снах, но затем прямо спрашивает Ставрогина: «…вы-то зачѣмъ мнѣ въ этомъ самомъ видѣ приснились?» (262). В данном случае героиня напоминает Гретхен Гете, которая в тюрьме пугается Фауста, принимая его за Мефистофеля. Отказ героини от предложения Ставрогина поехать с ним в Швейцарию можно воспринимать как отречение от злой силы.
В беседе с архиереем Тихоном Ставрогин признается, что подвержен «галлюцинациям»: видит или чувствует подле себя «злобное существо», которое затем называет бесом (409–410). Публичное признание в совершенном преступлении над девочкой, по мысли героя, должно избавить его от этого видения. Предложение Тихона побороть «желание мученичества», «посрамить беса» и гордость свою послушанием в монастыре под руководством старца вызывает у Ставрогина отторжение, поскольку его цель — самоутверждение: «…я хочу простить самъ себѣ» (433). В очередной раз торжествует злая сила, которую видит не только Лебядкина, но и Тихон.
Следует отметить, что видение в древнерусской словесности обычно входит в состав жития святого, сказания или повести, но при этом всегда отличается жанровой и композиционной целостностью. Определяя специфику жанра видения в древнерусской литературе, Н. И. Прокофьев обращается в основном к видениям Смутного времени и отмечает такие его черты, как публицистичность, утилитарная направленность и наличие тайнозрителя, от лица которого ведется повествование в сказовой форме. Содержанием видения является общение с трансцендентным миром, при этом типы образов, по мнению исследователя, могут быть различны: он выделяет христианские персонажи, демонологические, эсхатологические и символико-аллегорические [Прокофьев]. Марье Лебядкиной и Тихону являются демонологические видения.
О Тихоне Задонском как прототипе Тихона в «Бесах» одним из первых написал Р. В. Плетнев [Плетнев, 1986b]. Исследователь предположил, что святитель Тихон привлек Достоевского тем, что «был личностью изумительной святой жизни, необыкновенного внутреннего света, но вместе с тем это был человек чрезвычайно нервный и вечно борющийся сам с собой» [Плетнев, 1986b: 158]. Этой борьбой самим с собой он близок Ставрогину. Из сохранившихся воспоминаний о Тихоне Задонском, которые вошли в Житие, Плетнев выделяет «особенный дар Божий слез», которым был наделен святитель, а также его учение о борьбе с грехом [Плетнев, 1986b: 160–162]. На использование в главе «У Тихона» цитат из сочинений Иоанна Лествичника и Нила Сорского, которые читал Тихон Задонский, указала Н. Ф. Буданова [Буданова]. Во всех монастырях, где подвязался святитель, были храмы, освященные во имя Пресвятой Богородицы: в новгородском Антониевом монастыре — церковь Рождества Богородицы, в тверских Жолтикове и Отроч Успенском монастырях — Успенские храмы, в Воронежском Задонском монастыре — церковь Рождества Богородицы и собор Владимирской иконы Божией Матери.
Покров Пресвятой Богородицы — это собственно русский праздник, который вместе с тем указывает на преемственность между русской и византийской Церковью. Н. В. Елагин, составивший Житие Тихона Задонского, инициировал организацию в 1864 г. на родине святителя, в Валдайском уезде Новгородской губернии, Короцкой женской общины во имя святителя Тихона и создание в обители храма во имя Покрова Пресвятой Богородицы. Об освящении Покровского храма в обители сообщали «Новгородские губернские ведомости» от 6 ноября 1871 г., объясняя смысл церковного праздника: «1-ого октября православный мiръ воспоминаетъ чудное событiе, совершившееся въ древней Грецiи во Влахернскомъ храмѣ, когда св. Андрей видѣлъ Божiю Матерь съ сонмомъ святыхъ, молящуюся за родъ христiанскiй. Этотъ день и былъ избранъ Русскимъ Первосвятителемъ на молитвенное приз-ванiе благословленiя Царицы Небесной на юный вертоградъ дѣвъ и вдовицъ новоучрежденной общины»7.
В пространстве романа, связанном со Степаном Верховенским, символическим является образ тумана и дороги. Хроникер показывает картину мира Лизы Тушиной после ночи, проведенной ей в Скворешниках. Степан Верховенский в ее восприятии оказывается частью демонического мира:
«Мелкiй, тонкiй дождь проницалъ всю окрестность, поглощая всякiй отблескъ и всякiй оттѣнокъ и обращая все въ одну дымную, свинцовую, безразличную массу. Давно уже былъ день, а казалось все еще не разсвѣло. И вдругъ изъ этой дымной, холодной мглы вырѣзалась фигура, странная и нелѣпая, шедшая имъ навстрѣчу» (541).
Второй пейзаж — это большая дорога, по которой покидает город Степан Трофимович, и железная дорога, по которой движется поезд (через два дня на этом поезде уедет его сын):
«Мелкiй дождь то переставалъ, то опять начинался; но онъ не замѣчалъ и дождя. <…> Старая, черная и изрытая колеями дорога тянулась предъ нимъ безконечною нитью, усаженная своими ветлами; направо — голое мѣсто, давнымъ-давно сжа-тыя нивы; налѣво — кусты, а далѣе за ними лѣсокъ. И вдали — вдали едва примѣтная линiя уходящей вкось желѣзной дороги и на ней дымокъ какого-то поѣзда; но звуковъ уже не было слышно» (629).
Символический смысл образа дороги раскрывает сам Степан Верховенский. После объяснения с Варварой Петровной он говорит о своем будущем пути как движении к смерти:
«Въ позднiй путь, на дворѣ поздняя осень, туманъ лежитъ надъ полями, мерзлый, старческiй иней покрываетъ будущую дорогу мою, а вѣтеръ завываетъ о близкой могилѣ…» (327).
7 Новгородские губернские ведомости. 1871. 6 ноября. С. 6.
В пути герой размышляет:
«Большая дорога — это есть нѣчто длинное-длинное, чему не видно конца — точно жизнь человеческая, точно мечта человѣ-ческая. Въ большой дорогѣ заключается идея…» (628).
Город, из которого ушли Верховенские, соотносится с Россией, которая должна исцелиться, подобно бесноватому в Евангелии, и вернуться к христианским ценностям. Себя и сына Степан Верховенский относит к одержимым:
«Это мы, мы и тѣ, и Петруша… <…> и мы бросимся, безумные и взбѣсившiеся, со скалы въ море и всѣ потонемъ, и туда намъ дорога, потому что насъ только на это вѣдь и хватитъ. Но больной исцѣлится и "сядетъ у ногъ Iисусовыхъ"» (651).
Степан Трофимович в конце жизненного пути приходит к мысли о своей вине за воспитание Ставрогина, за то, что оставил сына Петра без внимания, обидел Федьку Каторжного, которого это побудило к мщению. Мысль об ответственности каждого за происходящее в мире — одна из основных идей романа. «…Всѣ и каждый одинъ предъ другимъ виноваты», — утверждает Степан Трофимович (641). Шатов размышляет: «Всѣ виноваты, всѣ виноваты и… еслибы въ этомъ всѣ убѣдились!‥» (584). Наконец, Тихон наставляет Ставрогина: «Согрѣшивъ, каждый человѣкъ уже противъ всѣхъ согрѣшилъ и каждый человѣкъ хоть чѣмъ-нибудь въ чужомъ грѣхѣ виноватъ» (431).
В конце романа Степан Трофимович Верховенский произносит слова, которые противоречат «многому изъ его прежнихъ убѣжденiй» (659). Открытие ему Истины происходит не только благодаря катастрофам, потрясшим город и его лично, но и встрече с Софьей Матвеевной, книгоношей, распространяющей Евангелие. В сознании Верховенского-старшего образ этой женщины связывается сначала с Варварой Петровной (ее муж умер по дороге в Крым, а муж Софьи Матвеевны погиб во время Крымской войны), затем — с Дашей Шатовой ( Ставрогин и Лиза называют ее «сестрой», «сиделкой» — Софья Матвеевна некоторое время в Севастополе служила «въ сестрахъ» (638) ) .
Наконец, Софья Матвеевна читает Степану Трофимовичу Нагорную проповедь. Это побуждает героя к покаянию: «…я всю жизнь мою лгалъ» (649). В повествовании возникает автобиографическая аллюзия: Верховенский-старший просит, чтобы его собеседница прочитала что-нибудь из Нового Завета, «куда глазъ попадетъ» (649). Известно, что Достоевский хранил Евангелие, подаренное в Тобольске женами декабристов, и «часто, задумав или сомневаясь в чем-либо, открывал наудачу это Евангелие и прочитывал то, что стояло на первой странице (левой от читавшего)»8. Автобиографическая аллюзия часто становится знаком, что идеи героя близки автору [Федорова, 2019: 186, 193, 196, 200].
Слова из Откровения Иоанна Богослова (Откр. 3:14–17), прочитанные Софьей Матвеевной, потрясают Верховенского-старшего: «…скорѣе холоднаго, холоднаго, чѣмъ теплаго, чѣмъ только теплаго. О, я докажу!» (650). И затем он просит прочитать о бесах, вошедших в стадо свиней, и соотносит этот евангельский сюжет с собой и сыном.
Главные истины Степан Трофимович произносит после признания в любви Варваре Петровне, исповеди и причащения святых даров. Мысленно Верховенский-старший возвращается к несостоявшемуся двадцать лет назад романтическому объяснению с ней. В начале романа говорится о том, что образ Верховенского-старшего сознательно создавался Варварой Петровной с ориентацией на портрет Нестора Кукольника, поразивший ее воображение, когда она воспитывалась в благородном пансионе в Москве (20). М. С. Альтман обнаруживает в произведениях Достоевского пародирование стиля Кукольника, в частности находит в словах Лебядкина искаженную цитату из стихотворения Кукольника «Сомнение» [Альтман: 88], а также утверждает, что Степан Трофимович похож на Кукольника манерой разговора и частным позерством [Альтман: 90]. В описании природы перед объяснением Варвары Петровны со Степаном Трофимовичем, положившим конец их романтическим встречам в беседке в саду, можно обнаружить аллюзию к «Романсу Риццио» (1839) Кукольника.
Герой «остановился, усталый, неподвижно предъ раскрытымъ окномъ, приглядываясь къ легкимъ какъ пухъ бѣлымъ об-лачкамъ, скользившимъ вокругъ яснаго мѣсяца» (19). В этом фрагменте мир показан глазами Верховенского, который мечтает, подобно лирическому герою Кукольника, о «деве», воплощающей Вечную Женственность (образ Вечной Женственности появляется во второй части «Фауста» Гете):
«Верю, знаю: день придет, Сердце радостно смутится, Деву тайную найдет, И мечта осуществится.
Ветер знает, кто она,
Облака ее видали, Как над ней издалека Легкой тенью пробегали» («Романс Риццио»)9.
Этот же пейзаж остается в воспоминании Варвары Петровны — им она делится со Степаном Трофимовичем в его предсмертные часы, но теперь к нему добавляется деталь, связанная с ее восприятием:
«Сигарку помните? <…> Сигарку, вечеромъ, у окна… мѣсяцъ свѣтилъ… послѣ бесѣдки. Въ Скворешникахъ?» (655).
В памяти Варвары Степановны сохраняется момент утраты романтического идеала.
По «закону заслуженного собеседника» Ухтомского «двойник» героя раскрывает его собственные пороки. Верховенско-му-старшему никогда не хватало веры в человека и в Бога. Отметим подозрения Степана Верховенского по поводу Варвары Петровны:
«…онъ разказывалъ постороннему лицу что она держитъ его изъ тщеславiя, завидуетъ его учености и талантамъ; ненавидитъ его и боится только выказать свою ненависть явно въ страхѣ чтобъ онъ не ушелъ отъ нея и тѣмъ не повредилъ ея литературной репутацiи…» (15).
-
9 Кукольник Н. В. Романс Риццио. <Из поэмы «Давид Риццио»> // Трилунный Д. Ю. Поэты 1820–1830-х гг. Т. 2 [Электронный ресурс]. URL: (10.12.2022).
Хроникер с возмущением пишет о неверии Верховенского в Дашу Шатову:
«Онъ не задумался заподозрить дѣвушку съ самаго перваго дня, еще не имѣя никакихъ основанiй, даже Липутинскихъ» (103).
Верховенский-старший мысленно возвращается в прошлое, чтобы исправить свою ошибку, и объясняется в любви Варваре Петровне. Герой убеждается в том, что он любит, значит, сердце его живо — он может быть спасен: «Любовь вѣнецъ бытiя»; «Если есть Богъ, то и я безсмертенъ» (659). Он полемизирует с «Фаустом»: «Каждая минута, каждое мгновенiе жизни должны быть блаженствомъ человѣку…» (660). После этого герой формулирует «закон бытия человеческого»:
«Если лишить людей безмѣрно великаго, то не станутъ они жить, и умрутъ въ отчаянiи. Безмѣрное и безконечное такъ же необходимо человѣку, какъ и та малая планета на которой онъ оби-таетъ… <…> Всякому человѣку, кто бы онъ ни былъ, необходимо преклониться предъ тѣмъ что есть Великая Мысль» (660).
Так в сознании Верховенского образ дороги трансформируется в размышление о Промысле Божием.
В черновом варианте «Бесов» есть слова, которые Н. А. Тарасова прочитала по рукописи иначе, чем это сделано в 30-томном академическом Полном собрании сочинений: «Мiръ спасаетъ Красота Христова» (вместо «мир станет красота Христова») [Тарасова, Кибальник, Димитриев: 105–106]. Исследователь приводит слова Шатова, который в разговоре с Князем утверждает этот же путь спасения: «Въ вѣре для человѣка необходимость: Если я несовершененъ, гадокъ и золъ, <…> то я знаю, что есть другой идеалъ мой, который прекрасенъ, святъ и блаженъ» [Тарасова, Кибальник, Димитриев: 105].
Достоевский верил в то, что «дух жизни» ведет русский народ к преображению:
«Это есть сила безпрерывнаго и неустаннаго подтвержденiя своего бытiя и отрицанiя смерти. Духъ жизни, какъ говоритъ Писанiе, "рѣки воды живой", изсякновенiемъ которыхъ такъ угрожаетъ Апокалипсисъ» (241).
Кириллов, Шатов, Марья Лебядкина, архиерей Тихон и даже Шигалев и Федька Каторжный смогли оказать сопротивление злым силам, подчинившим Петра Верховенского и Ставрогина. Шатову открывается религиозное понимание семьи как Малой Церкви. Кириллов осознает, что существует Промысел Божий. Мария Лебядкина и архиерей Тихон в молитве переживают духовное восхождение, которое сопровождается благодатными слезами. Обоим героям является демонологическое видение: они прозревают духовное состояние Ставрогина.
Теория доминанты А. А. Ухтомского позволяет обратить внимание на траекторию в хронотопе тех героев романа, которые показаны в развитии, остановиться на их предметном мышлении. Хроникер подчеркивает в описании природы такие детали, как туман, ветер, мрак, поскольку они символизируют разрушительные процессы, происходящие в обществе и в человеческом сознании. В романе Достоевского содержатся аллюзии к драме Гете «Фауст» и одноименной повести И. С. Тургенева. Предметное мышление Ставрогина раскрывает его «пороговое» состояние. Косые лучи вечернего солнца становятся символом утраченной внутренней гармонии. Соединение образа заходящего солнца с хтоническим существом (красный паучок) и образом обиженного ребенка символизирует пределы человеческой природы героя, которые он не смог преступить. В отличие от него, Степан Трофимович Верховенский приходит к осознанию своей вины и необходимости ее искупления. Себя и своего сына он относит к одержимым, от которых России надо освободиться. Встреча с Софьей Матвеевной, чтение Евангелия, исповедь и причащение формирует его новую доминанту. Он воспринимает свой путь как проявление Божьего Промысла, стремится исправить свою первую жизненную ошибку и убеждается в необходимости любви и Великой Мысли для каждого человека. Так в романе утверждается авторский идеал спасения как торжества Красоты Христовой.
512 p. (In Russ.)