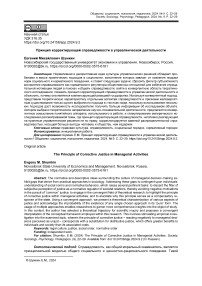Принцип корректирующей справедливости в управленческой деятельности
Автор: Шумкин Е.М.
Журнал: Общество: социология, психология, педагогика @society-spp
Рубрика: Социология
Статья в выпуске: 9, 2024 года.
Бесплатный доступ
Нормативная и дескриптивная идея культуры управленческих решений обладает пробелами в массе практических подходов в социологии, заполнение которых зависит от освоения людьми норм социального и нормативного поведения, и ставит следующие задачи: сбросить фильтр субъективного восприятия справедливости как нормативного регулятора общественных отношений для избегания отрицательной мотивации людей в поисках «общей» справедливости; войти в конвергентную область теоретического исследования; показать принцип корректирующей справедливости в управленческой деятельности и объяснить, почему она является компенсирующей реакцией государства. Используя конвергентный подход, представим теоретическую характеристику отдельным аспектам справедливости и признаем маловероятным существование только одного выбранного подхода в «чистом» виде, поскольку использование нескольких подходов даст возможность исследователю получить больше информации об исследуемом объекте. Автором выбрано теоретическое направление научно-познавательной деятельности, предлагается конвергентное осмысление понятийного аппарата, используемого в работе, и стимулирование эмпирического исследования рассматриваемой темы, где принцип корректирующей справедливости, негативно реагирующий на принятые управленческие решения не по праву, корреспондируется заменой распределительной справедливостью, несущей больше выгоды человеку и обществу, чем издержки.
Правовая культура, справедливость, социальный порядок, нормативный порядок
Короткий адрес: https://sciup.org/149146419
IDR: 149146419 | УДК: 316.35 | DOI: 10.24158/spp.2024.9.2
Текст научной статьи Принцип корректирующей справедливости в управленческой деятельности
Новосибирский государственный университет экономики и управления, Новосибирск, Россия, ,
аффективный, в социальном смысле, комфорт продиктован необходимостью соблюдения баланса интересов во всех сферах жизнедеятельности человека, включая управленческую, квинтэссенцией которых является благо и право на него. Рафинированный анализ о благе, обществе и человеке, его потребляющем, дал Аристотель, определивший справедливость как высоконравственное качество, присущее человеку, и называл это преференциальным благом, первым среди равных (Аристотель, 1983а: 296).
Источник такого блага ‒ метафизическое понятие1, носителем которого является человек, при этом подчеркивается, что господство над своей вещью2 справедливо, а посягательство на чужое несправедливо. Аристотель использует понятие пропорции как этического суррогата понятия баланса интересов между человеком, обществом и государством, в виде «середины», которую определяет тот, кто способен распределять блага сознательно и равно (Аристотель, 1983а: 303)3.
Согласно Аристотелю, это внешнее влияние, соответствующее принятой государством норме, равной, в свою очередь, нравственности4. Внутреннее влияние соотносится как нулевая толерантность к несправедливости для каждого. Определение справедливости и принятого нормативного решения, в коннотации ожидаемого легитимного поведения, отчасти релевантно друг другу. По словам Аристотеля, тот, кто поступает несправедливо и хочет присвоить себе чужое благо, демонстрирует ненормативное поведение5. Справедливость – это важная часть правосудного поведения, такая же, как несправедливость ‒ часть поведения неправосудного (Аристотель, 1983б: 199).
Особенностью такого подхода является выделение доминирующей роли установленному людьми порядку распределения благ, где ведущую роль выполняют социальные нормы, и, в неполной мере, нормы нормативные, что не может гарантировать объективную справедливость, так как имеет место искушение потребовать большего. Уравновесить человеческие соблазны, спровоцированные, например, гиперболизированным социальным положением людей6, призвано общественное неодобрение, гарантирующее вероятность принуждения за отклонение от установленного порядка. Неравенство людей, по Аристотелю, заложено обществом, и общество же стимулирует специальным насилием «объективно распределять справедливость», если модель поведения того или иного субъекта недобросовестна по отношению к нему.
Таким образом, Аристотель закладывает конфликт между субъективным и объективным, то есть нормативным понятием справедливости, считая, что одно только знание справедливости не делает субъекта справедливым, а только сформулированный призыв к добродетели сделает его таковым7. Важно отметить, что Аристотель акцентирует внимание на уровне осведомленности человека о неких этических принципах и его праве гарантированного выбора модели поведения, исходя из превентивно установленных стандартов такого поведения.
Вступая в полемику с самим собой, Аристотель приходит к выводу, что справедливость не абсолютна, и история человечества с ним солидарна, так как человеческое общество, эволюционируя, меняло и принципы справедливости. Ключевая интенция Аристотеля видится в том, что процесс освоения норм честного поведения является справедливым8 в случае соблюдения норм человеческого общежития, отказ или отклонение от которого провоцирует конфликты и тяжбы, решения по которым должны быть справедливыми, так как поддерживают авторитет государства и отражают социальную определенность в отношении общества к нему.
Философский подход . Выделяя нормативность и дескриптивность как совокупную идею философского подхода, важно рассмотреть их по отдельности. Апологетами нормативности как институционального интереса к теории справедливости являлись, в первую очередь, Томас Гоббс, Джон Локк и Жан-Жак Руссо через идею общественного договора с акцентом на нормативность. Доминирующий акцент расположен в правовом порядке. А. Сену, например, проникнутого такой идеей, угнетала при этом опора на институционализацию в поисках идеальной сути справедливости. Он полагал, что институционализация служит тому ограничивающим фактором. Имплицитно разделяя идею нормативной справедливости, Джон Роулз высказывался о распределительном принципе справедливости, подчиненной интернализированным процедурам ее извлечения в судебном процессе (Sulikowski, 2018: 332).
Дескриптивность раскрывается как социальное воплощение справедливости в существующих институциональных рамках. К сторонникам такой концепции можно отнести Адама Смита и Джона Миля. Здесь доминирующий акцент на социальном порядке. Подобные философские концепции изменили нормативное представление о справедливости (Satz, 2011: 561), предоставив относительную монополию свободному и социальному ее пониманию, что отличается, в свою очередь, от концептуального представления об этом явлении Дж. Роулза, опирающегося на правовые, то есть институциональные основания получения и перераспределения благ.
Правовой подход . Право без точки опоры в виде справедливости грозит оказаться фик-цией1. Сложность здесь в интерпретации справедливости с социальным, правовым и индивидуальным значением, которая является открытым понятием настолько, насколько развиты общество и государство, их уровень правовой культуры, призванной создавать условия для нормального и нормативного функционирования всех видов человеческой деятельности, стремясь снизить возможный риск столкновения личных интересов и интересов государства через коррекцию моделей поведения субъектов.
Сам принцип корректирующей справедливости, понимаемый в качестве объективно существующих абстрактных предпосылок для социального признания и нормативной защиты прав человека на занятие им управленческой и предпринимательской деятельностью, вся многообразная совокупность которых сводится к обеспечению распределения нематериальных и материальных благ в обществе и соблюдения конкуренции между ними2.
Само право формулирует притязание на минимальный стандарт ответственности человека через гормезис3 в надежде, что нулевая интервенция от такого стандарта является справедливостью, при этом игнорирует его личностные особенности, что само по себе драматично. Возникает вопрос о нормативном регулировании личных свобод и, как следствие, об индивидуальном понимании справедливости, перегруженной множеством нормативных толкований. Ответ на этот вопрос расположен в понимании человеком необходимости купирования своей свободы, а значит, и свободного представления о справедливости (Делокаров, Демидов, 2016: 17).
«Всемирная история есть дисциплинирование необузданной естественной воли и возвышение ее до всеобщности и до субъективной свободы» (Гегель, 1935: 99), таким образом, меняется контекст времени, политической власти и правовой культуры, но может меняться и личное представление о справедливости, так как оно опирается на социальную практику в силу непреодолимых и конфликтных противоречий, разрешаемых через резкие изменения общественного сознания (Шумкин, 2019: 139). Такие скачки в любом обществе возможны при отрыве от идеи справедливости, где изменение нормативности неподвластно адресатам, а ее содержание формально.
Социально-экономический подход . Адам Смит использовал свою идею «беспристрастного наблюдателя» в рассуждениях о справедливости в контексте исследования ее нормативности (Шиманец, 2015: 201). При этом для автора состояние человека, способного осознать справедливость, содержит в себе определенную степень нормативной оценки модели поведения другого человека или общества с целью его одобрения или порицания, что видится стигматизацией, противоречащей позиции «беспристрастного наблюдателя». Идея А. Смита основана на методе сравнения, где сравнение есть оценочное сужение, позволяющее выйти за пределы нормативного и социального порядка, с одной стороны, и акцентироваться на общественной имплементации справедливости, как считал А. Сен (Sen, 2009: 44).
Этот подход валиден в сравнительной оценке различных нормативных порядков и преобладающих в них социальных практик. Предсказание экономического восприятия справедливости, ревнителем которого выступал Дж. Роулз, и оценка результата такого восприятия с учетом внутренних и внешних факторов, успевших повлиять на него, чьим апологетом был А. Смит, в совокупности дают нам больше полезной информации о вопросах, касающихся справедливости. Эта мысль уводит нас от суммы только «сухого» результата исследования данного вопроса и предлагает объективно учесть номенклатурные обязанности человека применительно к конкретной ситуации, зависимого от действий других субъектов, положения общества и степени ответственности, ограничивающей наше реальное восприятие справедливости4.
Таким образом, если на данном этапе предположить, что принятие нормативной справедливости является абсолютной доминантой при реализации экономических возможностей субъекта, то не станет ли такая свобода его прав началом ограничения развития общества и государства? По мнению А. Сена, права, рассматриваемые как возможности человека, толерантны этике, требования к которой могут разниться у человека, общества и государства. При этом сама этика лишена нормативного содержания, а процедурная справедливость неприемлема и предназначена, по Л. Харту, для вдохновения государства (Hart, 1961: 191). И если Л. Харт видит эти требования нормальными стандартами безопасности человека, то А. Сен сепарирует право и мораль, где только право обладает критерием справедливости (Osmani, 2010: 605). В преломлении к социальным потребностям регулирования общественных отношений в сфере управления понятие справедливости, полагаем, может иметь привязку к этике.
Можно выделить наиболее важные социально-экономические аспекты справедливости: обеспечение подлинного, а не декларируемого равенства субъектов управленческой деятельности; признание оправданных социально-экономических приоритетов, не нарушающих общего равенства субъектов управленческой деятельности; ожидание более высокого уровня социальноответственного поведения от субъектов более масштабной управленческой деятельности; оправданное распределение управленческих рисков.
Отсюда следует, что здесь справедливость – это обоснованно ожидаемая мера социальной оценки субъекта любой деятельности1 при реализации им управленческого потенциала в обмен на учет общественных интересов, даже под риском принятия на себя более высоких обременений.
Политико-правовой подход . Равное восприятие справедливости обществом и государством служит основой их позитивного взаимодействия. Одна из функций политической культуры – формирование представления о справедливости, соответствующей текущему политическому идеалу в государстве, которое может меняться в зависимости от их дрейфа по политическому руслу. Предполагается, что справедливость коррелируется с актуальными целями и ценностями государства (Панченко, 2013: 189) и отражает реальное равновесие между правами, обязанностями и степенью ответственности субъектов за их реализацию.
Если рассматривать справедливость как распределение имеющихся или созданных благ внутри общества соразмерно социальному статусу каждого, то политическая справедливость указывает нам на порядок такого распределения, где баланс интересов основан на равном доступе к правам и равном и адекватном их ограничении, где монополией на такое ограничение обладает государство по принципу принуждения большинства к позиции меньшинства. Эволюционной проблемой сохранения такого баланса является крен самого понятия «справедливость» от этического в сторону политико-правового. Представление Аристотеля о справедливости как о колыбели всеобщего блага утрачено, на фронтир выходят интересы субъекта, конформно поддерживающего нормативно закрепленные интересы.
Важно отметить, что политическая справедливость должна быть равной идее политики общего блага, где люди свободны извлекать свою выгоду в процессе управленческой деятельности на властно-нравственной основе, при этом неясно, как нормативно определить границу между нравственностью и политико-правовым эгоизмом, что в данном контексте диктует понимать справедливость как политическое понятие, а не нормативное.
В качестве противовеса и нетерпимости такого подхода выступает культура отмены идеи доминации правовых норм над социальными, подвергающая остракизму того, чья позиция обладает нулевой толерантностью к остросоциальным явлениям (Субботина, 2022: 35). Неприемлемость доминирования правового порядка над социальным основана на идеологически сконструированной реальности, угнетающей идентичность человека. Н.П. Альперштейн (Alperstein, 2019: 97) выдвинул концепцию «виртуального коллективного сознания», блуждающего в социальных сетях, порожденного цифровой культурой, как конструктора немаркированных субъективностей и самореферентных практик, претендующих на звание социальной свободы и справедливости. Практическая ценность этого подхода не приветствуется в силу доминирования ее неоправданной критики, имеющей своей целью подвергнуть остракизму самого человека, а не его действие или бездействие, как того требуют право и мораль.
Таким образом, здесь справедливость – это апология социального и правового порядков, отражающих общественное сознание, нравственной привилегией которого является свобода личности, что невозможно без управления со стороны государства с помощью повышения уровня правовой культуры как институционального устремления государства направлять и контролировать социальный порядок в интересах текущего политического устройства, а положение правового позитивизма претендует на толерантность к ценности, названной справедливостью, в том случае, если она ему не противопоставлена.
Общая экспозиция данного подхода:
-
1. Справедливость основана на праве.
-
2. Политические механизмы обеспечивают достижение справедливости через ее нормативное регулирование.
На основании вышеизложенного выразим доверие аристотелевской мысли о связанности справедливости с государством через нормативность, являющейся ее мерилом.
Канонический подход . Идея справедливости в православной культуре вечна, если речь больше идет о «правде» и обычае, чем о законах человеческих (Якушева, 2008: 213), при этом она также подвержена уникальной трансформации под влиянием светско-политического и общественного регулирования. На всяком историческом отрезке эволюционного развития общества проблема справедливости требует своего толкования. И если толкование субъекта управления о справедливости ошибочно, он рискует занять ответственную позицию по отношению скорее к государству, чем к религиозным традициям, так как последние подлежат нормативной секуляризации. Если допустить, что стремление к монополии на толерантность есть в каждой религии, то и для светской «религии» – социального порядка, это не чуждо тоже, где каждый человек является моральным регулятором в своей деятельности (Чумакова, 2010: 199). Справедливое поведение, то есть по правде, воспринимается как поведение, соответствующее обычаю – социальному правилу, приведшее к ассоциативному и дискриминационному восприятию справедливости в обществе1.
Идеальный подход . Освоение принципа корректирующей справедливости начинается с субъективной оценки нравственных принципов, гарантирующих справедливость (Ефремова, 2013: 7; Коркунов, 1999: 135). Возражая позиции Н.Н. Ефремовой о том, что справедливость является только правовой ценностью, укажем, что, справедливость ближе к социальному суррогату морального права на основе обычая (Чичерин, 1998: 160). При этом обычай является квинтэссенцией правильного поведения, нравственный эффект которого достигается при соответствии такого поведения нормативным стандартам. Вместе с тем можно согласиться, что справедливость может являться нормативной категорией, преодолевающей субъективное представление о справедливости отдельно взятого человека, при этом конфликт представлений нивелируется импликацией2.
Таким образом, здесь идеальное представление о справедливости заложено в нравственном восприятии правильного по природе общественных отношений.
Социологический подход . Обладая монополией на понуждение, государство, с одной стороны, управляет порядком соблюдения условий общественного договора, с другой стороны, само общество занимается саморегулированием отношений субъектов через эффективные правила социального взаимодействия. Эффективность определяется достижением наилучшей организации общества, которая приводит к развитию социальной добродетели ‒ справедливости. Именно при этом целеполагании движение общества будет направлено на достижения благ и свобод, а государство отмечено управленческой эффективностью и минимизацией социальных контрастов, таких как равный доступ к публичным благам – образованию, трудовой, предпринимательской, управленческой деятельности и т. д., гарантируемым государством.
Последнее обстоятельство ставит вопрос о существовании принципа корректирующей справедливости в случае возникновения деструктивных социальных последствий из-за нарушения баланса интересов общества и государства. Такие последствия находятся вне контекста общественного регулирования вопросов, возникающих между людьми, и подлежат силовому нормированию. Можно выразиться следующим образом: принцип корректирующей справедливости ‒ фрейм, в котором все общественные отношения в любых видах деятельности развиваются конструктивно и эффективно, а попытка выхода за его пределы воспринимается обществом и государством неодобрительно.
Стоит отметить, что само государство не может создать такой принцип без реакции общества, так как справедливость не является нормативной, она лишь фиксирует определенные правила и нормы. Социальный аспект заключается в регулируемом государством процессе освоения всеми правил честного поведения, где общество получает выгоду от восприятия такого процесса как комфортной основы жизни общества, а нормативный эффект в виде экспансии негативных санкций со стороны государства отсутствует, чем и достигается справедливость.
Нюансы кроются в соразмерности этой экспансии за нарушение процесса освоения правил поведения в обществе. Если крен государственного модерирования общественных отношений чрезмерен, то можно говорить и о нарушении баланса справедливости для общества. Так, общество и государство симбиотически определяют должную меру субъективной свободы, регламентируют минимальные стандарты поведения во всех сферах жизнедеятельности человека и определяют справедливость как один из культурных кодов. Следовательно, здесь справедливость – это общественная цель, а коррекция пути достижения субъектами этой цели и устранение перманентных отклонений от нее являются средством – принципом корректирующей справедливости.
Оценочный подход . Оценочное представление о справедливости человека находится в зависимости от компенсаторной реакции государства, в случае отсутствия тождественности такого представления с ним, данный подход призван обеспечить человеку необходимый уровень благ (Беляков, 1986: 186). При этом субъективное преставление о справедливости государством игнорируется, если оно не соответствует его ожиданиям (Bukovac Puvača, 2016: 171). Таким образом, реализация принципа корректирующей справедливости в контексте управленческой деятельности, направленного на дисконтирование нарушения баланса интересов общества и государства, принимается верной по умолчанию1 (Koziol, Wilcox, 2009: 3).
Авторский аспект . Предполагается, что рассматриваемый принцип в «чистом» виде должен приводить к объективному представлению о благах и справедливости, что допустимо разве что в идеальном мире. В материальном мире субъектам управления, признающим культуру корректирующей справедливости, приходится устанавливать границы ее восприятия. Помимо нормативного влияния, важное значение для реализации управленческой деятельности имеют социальные регулятивные механизмы (одним из них также является справедливость), тесность связи которых обуславливается правовой культурой.
Справедливость является особенным элементом процесса реализации управленческих решений, влияющих на разумность, рациональность и эмоциональность лица, принимающего решения, что в конечном счете отражает их возможную противоречивость в зависимости от культурной, социальной, управленческой и деловой среды, вида деятельности и т. д. При таком подходе представляется возможным шире исследовать феномены управленческой деятельности в части применяемых управленческих штампов, профессиональных клише, предпринимательских традиций, культурных кодов лиц, принимающих решение, и их мыслительных типах.
Ценность справедливости заключается в его возможности корректировать содержание любого управленческого решения, целью которого является благо общества, человека и государства. Стоит указать на историческую категоричность восприятия справедливости субъектами управления при взаимодействии с государством, что оказывает влияние на формирование социокультурного пространства сферы предпринимательства, в том числе и деструктивные социальные практики, ведущие к несостоятельности (банкротству) компаний. Такие проблемы нуждаются в глубоком социологическом анализе, результаты которого будут иметь важное значение для сферы государственного управления и частного сектора.
Реализация принципа корректирующей справедливости . Рассмотрим перспективы использования принципа корректирующей справедливости в социологии управления и других отраслевых социологических дисциплинах, таких как экономическая, политическая и правовая.
Самый очевидный пример использования принципа корректирующей справедливости – это прогнозирование возникновения социальных, трансакционных, управленческих издержек и выгод в результате принятия тех или иных управленческих решений в сфере предпринимательской или государственной деятельности. Большинство управленческих решений, особенно в сфере предпринимательства, ставит, на первый взгляд, благовидные цели – прибыль, создание рабочих мест, совершенствование менеджмента компании и ее планово-конъюнктурное развитие. Это предполагает также наличие определенных социальных выгод, требующих социально-экономических издержек.
Использование социологического инструментария моделирования управленческого решения под влиянием не только правового определения справедливости и стимулов за несоответствие ему способно, по крайней мере в краткосрочной перспективе, указать на возможные издержки, на которые пойдут лица, принимающие решения, и выгоды, которые получит общество. Например, в качестве имплементации управленческого комплаенса в область предпринимательства могут стать идеи введения обязательной оценки социального воздействия принимаемых управленческих решений. Правильная оценка потенциальных издержек и выгод от введения социального регулирования управленческой деятельности в виде управленческого комплаенса имеет важное значение для развития рыночной экономики.
Отсутствие такого комплаенса сдерживает предпринимательскую активность и развитие конкуренции, противопоставляя этому корпоративное банкротство, с санкцией за неправильно принятые (вне конъюнктуры) управленческие решения в виде субсидиарной ответственности. Принимая во внимание паттерны принятия управленческих решений, детерминированных теми или иными внешними, а также внутренними стимулами, можно рассчитывать потенциальные выгоды и издержки. По сути, это общественное лицензирование любой управленческой деятельности.
Список литературы Принцип корректирующей справедливости в управленческой деятельности
- Аристотель. Большая этика // Аристотель. Сочинения: в 4 т. Т. 4 / пер. с древнегреч.; под общ. ред. А.И. Доватура. М., 1983а. C. 295–374.
- Аристотель. Никомахова этика // Аристотель. Сочинения: в 4 т. Т. 4 / пер. с древнегреч.; общ. ред. А.И. Доватура. М., 1983б. С. 53–293.
- Гегель Г. Сочинения. Т. 8: Философия истории. М.; Л., 1935. 470 c.
- Делокаров К.Х., Демидов Ф.Д. В поисках новой парадигмы: Синергетика. Философия. Научная рациональность. М., 1999. 107 с.
- Ефремова Н.Н. Справедливость как фактор развития правосознания и правовой культуры России пореформенного периода // Право. Журнал высшей школы экономики. 2013. № 3. С. 3‒11.
- Коркунов Н.М. Проблемы права и нравственности // Русская философия права: философия веры и нравственности. СПб., 1999. С. 128‒148.
- Панченко Б.Б. Справедливость, как принцип взаимодействия государства и общества в западной и российской политической мысли. М., 2013. 201 c.
- Субботина М.В. Культура отмены: проявление социальной справедливости или новый инструмент манипуляции // Общество: социология, психология, педагогика. 2022. № 3. С. 34‒37. https://doi.org/10.24158/spp.2022.3.5.
- Чичерин Б.Н. Философия права. СПб., 1998. 654 с.
- Чумакова Т.В. Закон и справедливость в древнерусской культуре // Государство, религия, церковь в России и за рубежом. Т. 28, № 4. 2010. С.197‒203.
- Шиманец П. Разные культуры и справедливость: идея справедливости А. Сена в контексте современной правовой философии // Известия высших учебных заведений. Правоведение. 2015. № 6 (323). С. 196‒210.
- Шумкин Е.М. Изменчивость правовой культуры в условиях негативных социальных явлений // Мир экономики и управления. 2019. Т. 19, № 3. С. 132‒140. https://doi.org/10.25205/2542-0429-2019-19-3-132-140.
- Якушева Т.Ю. Концептуализация «справедливости» в православной культуре // Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. Серия: Социальные науки. 2008. № 1 (9). С. 208–214.
- Alperstein N.M. Celebrity and Mediated Social Connections. Palgrave Macmillan Cham, 2019. 242 p. https://doi.org/10.1007/978-3-030-17902-1.
- Bukovac Puvača M. Funkcije pravične novčane naknade u hrvatskom odštetnom pravu // Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. 2016. Vol. 37, no. 1. P. 155‒173. https://doi.org/10.30925/zpfsr.37.1.6. (на хорват. яз.)
- Hart H.L.A. The Concept of Law. Oxford, 1961. 263 p.
- Osmani S.R. Theory of Justice for an Imperfect World: Exploring Amartya Sen's Idea of Justice // Journal of Human Development and Capabilities. 2010. Vol. 11, no. 4. P. 599‒607. https://doi.org/10.1080/19452829.2010.520965.
- Punitive Damages: Common Law and Civil Law Perspectives / ed. by H. Koziol, V. Wilcox. Springer Vienna, 2009. 335 p.
- Satz D. Book Review: The Idea of Justice // Political Theory. 2011. Vol. 39, no. 4. P. 560‒565. https://doi.org/10.1177/0090591711406416.
- Sen A. The idea of Justice. Cambridge, 2009. 468 p.
- Sulikowski A. Kryzys nowoczesnego konstytucjonalizmu. Między liberalną sędziokracją a postliberalnym populizmem // Filozofia Publiczna i Edukacja Demokratyczna. 2018. Vol. 7, no. 1. P. 328‒3407. https://doi.org/10.14746/fped.2018.7.1.14. (на пол. яз.)