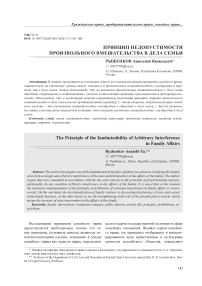Принцип недопустимости произвольного вмешательства в дела семьи
Автор: Рыженков Анатолий Яковлевич
Журнал: Вестник Омской юридической академии @vestnik-omua
Рубрика: Гражданское право, предпринимательское право, семейное право, международное частное право
Статья в выпуске: 2 т.17, 2020 года.
Бесплатный доступ
В статье проводится исследование одного из основополагающих принципов семейного права, направленное на уточнение границ между законным и произвольным вмешательством государства и третьих лиц в дела семьи. Автор доказывает, что не являются произвольным вмешательством в дела семьи действия, совершаемые в соответствии с законом и отвечающие принципу соразмерности и пропорциональности. Отмечается, что в настоящий момент нормативная реализация принципа запрета произвольного вмешательства в дела семьи имеет противоречивый характер. С одной стороны, декриминализация семейного насилия - это уменьшение вмешательства государства и общества в дела семьи, с другой стороны, мы видим усиление роли ювенальной юстиции, что означает увеличение вмешательства государства в дела семьи.
Семья, вмешательство, оценочная категория, публичные интересы, частная жизнь, принцип, запреты, ограничения
Короткий адрес: https://sciup.org/143172739
IDR: 143172739 | УДК: 347.6 | DOI: 10.19073/2658-7602-2020-17-2-181-188
Текст научной статьи Принцип недопустимости произвольного вмешательства в дела семьи
Исследование принципов семейного права представляется необходимым, потому что такие принципы (основные начала) являются основополагающими идеями, лежащими в основе семейного права как отрасли права, определяют цели и задачи государственной политики в сфере семейных отношений. Являясь ядром семейного права, его принципы отображают в концентрированном виде нравственные и культурные ценности российского общества, определяют векторы дальнейшего развития семейного законодательства, способствуют правильному толкованию и применению его норм. Именно поэтому изучение принципов права с точки зрения юридической техники и механизма их реализации в нормах семейного и иного законодательства является столь важным и значимым вопросом.
Принцип недопустимости произвольного вмешательства кого-либо в дела семьи имеет межотраслевой характер, а соответствующие отношения регулируются, наряду с нормами семейного права, также нормами конституционного, гражданского и иных отраслей права. Так, ст. 23 Конституции РФ предусматривает право каждого на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну; ст. 10 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации закрепляет правило, по которому в определенных законом случаях допускается закрытое судебное разбирательство в целях обеспечения тайны усыновления, а также обеспечения неприкосновенности частной жизни граждан; ст. 1 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) не допускает произвольного вмешательства кого-либо в частные дела [15, с. 78]. Рассмотрение исследуемого принципа в контексте норм Конституции РФ и ГК РФ позволяет сделать вывод, что запрет на вмешательство в дела семьи выступает одним из проявлений более общего запрета на произвольное вмешательства в частные дела как родовой категории. При этом следует обратить внимание на тесную взаимосвязь принципа недопустимости произвольного вмешательства кого-либо в дела семьи с другими принципами семейного права. Наиболее тесная связь прослеживается с принципом обеспечения беспрепятственного осуществления членами семьи своих прав, также закрепленном в ст. 1 Семейного кодекса Российской Федерации (далее – СК РФ).
Поскольку сфера действия обоих принципов отчасти совпадает, представляется обоснованным провести их разграничение. На этот счет в научной литературе высказано несколько точек зрения. Так, одни авторы отмечают, что «принцип необходимости беспрепятственного осуществления гражданских прав по содержанию и общей направленности очень близок к принципу недопустимости произвольного вмешательства кого-либо в частные дела. Если последний принцип непосредственно связан с действиями третьих лиц, нарушающих субъективные права и законные частные интересы субъектов гражданского права, то рассматриваемый принцип призван обеспечить возможность беспрепятственного осуществления гражданских прав лицом, которому данные права принадлежат. Третьи лица обязаны воздерживаться от создания каких-либо препятствий, мешающих уполномоченному лицу осуществлять принадлежащие ему права [3, с. 12]. Другие авторы также задаются вопросом о том, насколько целесообразно разделение в механизме осуществления прав и исполнения обязанностей принципов недопустимости вмешательства в частные дела и беспрепятственного осуществления гражданских прав. Основанием для их разделения служит положение ст. 1 ГК РФ, которое в перечне основ гражданского законодательства (среди прочих) провозглашает и оба указанных принципа. Представляется, что по содержанию и действию эти принципы, действительно, очень близки, и не случайно многими авторами содержание одного из них толкуется через диспозицию другого. Отличие же между ними в том, что «принцип беспрепятственного осуществления гражданских прав обращается к обладателю субъективного гражданского права, очерчивая границы его собственного поведения, а границами поведения других участников гражданских правоотношений являются юридические императивы принципа недопустимости произвольного вмешательства кого-либо в личные дела» [10, с. 21].
Е. А. Суханов считает, что принцип недопустимости произвольного вмешательства в частные дела характеризует гражданское право как частное право, учитывая, что он адресован, в основном, органам публичной власти [13, с. 38].
Представляется, что, говоря о соотношении исследуемых принципов, следует согласиться с Е. В. Вавилиным в том, что данные принципы обращены к разным субъектам, а потому и методы их действия различны: один регулирует, другой запрещает. Поэтому в рамках механизма реализации прав и исполнения обязанностей вмешательство в частные дела проявляется как возникновение препятствий на стадии правоотношения либо на этапе установления юридических фактов. В качестве фактических препятствий в процессе осуществления могут выступать бездействие участников гражданского оборота, неправомерные или недобросовестные их действия, препятствия объективного характера. Поэтому в механизме осуществления прав и исполнения обязанностей принцип беспрепятственного осуществления прав по своему действию аналогичен принципу недопустимости произвольного вмешательства кого-либо в личные дела, но подразумевает более широкий спектр требований и условий. Это дает возможность рассматривать принцип беспрепятственного осуществления прав широко, а недопустимость произвольного вмешательства кого-либо в частные дела – как одно из его проявлений [2, с. 165–167]. Другими словами, недопустимость произвольного вмешательства кого-либо в частные дела является частным случаем беспрепятственного осуществления прав [4, с. 78].
Однако каково же будет содержание и механизм реализации принципа недопустимости произвольного вмешательства в семейном праве? Следует заметить, что данный принцип включает ряд оценочных категорий, не имеющих четкого содержания. Во-первых, СК РФ не содержит четкого определения того, что есть «произвольное вмешательство» в дела семьи. Во-вторых, нет никакого перечня лиц («кого-либо»), которым запрещено вмешиваться в дела семьи. В-третьих, остаются открытыми вопросы о том, что именно понимать под «делами семьи» и каков перечень таких «дел», в которые запрещено вмешиваться. Попробуем разобраться в этом и предложить некоторые ответы.
-
1. Оценочные категории – это выраженные в нормативных актах положения (предписания законодателя), в которых закрепляются наиболее общие признаки, свойства, качества, связи и отношения разнообразных предметов, явлений, действий, процессов, детально не разъясняемые законодателем с тем, чтобы они конкретизировались путем оценки в процессе реализации норм права [7, с. 26]. Посредством оценочных категорий происходит отображение «в нормативных актах страны всех многообразных социальных явлений в их динамическом развитии. Именно в них в наиболее общем виде объединяются различные неоднородные факты, явления, находящиеся в сфере правового регулирования, дается их оценка на основании определенных критериев» [16, с. 6].
-
2. Исходя из анализа норм СК РФ можно сделать вывод, что запрет постороннего (произвольного) вмешательства в дела семьи распространяется не только на должностных лиц, но и на всех остальных граждан, не являющихся членами конкретной семьи. Поэтому, на мой взгляд, категории «кого-либо» следует придавать расширительное толкование. Относительно же категории «дела семьи» следует заметить, что сам СК РФ содержание термина «семья» (или «дела семьи») не раскрывает, но в силу ст. 16 Всеобщей декларации прав человека 1948 г. «семья является естественной и основной ячейкой общества и имеет право на защиту со стороны общества и государства»1. Поэтому «произвольным вмешательством», например, со стороны родственников будут требования о выборе супругами конкретного места жительства, работы, методов воспитания ребенка, распределения домашних обязанностей и т. д. При этом обратим внимание,
-
3. Рассматриваемый принцип предполагает запрет не вообще любого вмешательства в дела семьи, а только произвольного, не основанного на законе вмешательства. Однако возникает вопрос о том, что следует понимать под термином «произвольное вмешательство»? А. С. Косач полагает, что произвольное вмешательство – это самовольное участие одного субъекта в делах другого, при этом отсутствует согласие второго субъекта на такое вмешательство; оно осуществляется с нарушением требований норм и принципов права [9, с. 12].
-
4. Конструкция исследуемого принципа в целом соответствует общепринятым принципам и нормам международного права, а также имеет ряд аналогов в семейном законодательстве других республик бывшего СССР. Так, согласно ст. 12 Всеобщей декларации прав человека 1948 г. «никто не может подвергаться произвольному вмешательству в его личную и семейную жизнь, произвольным посягательствам на неприкосновенность его жилища, тайну его корреспонденции или на его честь и репутацию. Каждый человек имеет право на защиту закона от такого вмешательства или таких посягательств». В силу ст. 17 Международного пакта о гражданских и политических правах 1966 г., «никто не может подвергаться произвольному или незаконному вмешательству в его личную и семейную жизнь, произвольным или незаконным посягательствам на неприкосновенность его жилища или тайну его корреспонденции или незаконным посягательствам на его честь и репутацию. Каждый человек имеет право на защиту закона от такого вмешательства или таких посягательств»2.
-
5. В качестве примера недопустимого (произвольного) вмешательства государства в дела семьи в научной литературе иногда приводят нормативное регулирование следующего аспекта суррогатного материнства. Согласно п. 4 ст. 51 СК РФ лица, давшие свое согласие на имплантацию эмбриона другой женщине в целях его вынашивания, могут быть записаны родителями ребенка только с согласия этой женщины . По мнению И. А. Диковой, данная норма допускает воспрепятствование суррогатной матерью осуществления родительских прав истинным родителям ребенка. Это «не только противоречит основным началам семейного законодательства о недопустимости произвольного вмешательства кого-либо в дела семьи и обеспечении беспрепятственного осуществления членами семьи своих прав, но и полностью девальвирует суррогатное материнство как эффективный метод борьбы с бесплодием» [5, с. 23].
Обращение законодателя к оценочным категориям как приему юридической техники позволяет обеспечить гибкость правового регулирования и является объективно необходимым, поскольку данные категории позволяют добиться полноты и динамичности законодательства, отобразить в праве явления морального, этического и нравственного характера, предоставить субъектам право выбора в конкретной ситуации наиболее целесообразного варианта поведения [12, с. 180]. Использование оценочных понятий дает возможность правоприменителю реагировать на соответствующие социально значимые изменения, происходящие в явлениях, описанных с их помощью, учитывать особенности соответствующих юридических конструкций в целом и каждой конкретной ситуации в отдельности. Однако использование оценочных категорий имеет и обратную сторону, а именно: произвольность и субъективизм их толкования, практически неограниченную свободу усмотрения в процессе применения. В отличие от позитивных свойств, проявляющихся в сфере правотворчества, негативные свойства имеют место на стадии применения права [11, с. 4]. Из этого следует, что использование оценочных категорий в семейном праве в целом и при формулировке его принципов в частности само по себе является оправданным, однако это возлагает на высшие судебные инстанции и научную доктрину задачу по толкованию таких категорий, определению границ, в рамках которых правоприменитель вправе осуществлять собственное усмотрение.
что механизм разрешения такого рода родственных конфликтов четко не урегулирован СК РФ, и тут будут действовать общие правила по защите гражданских и семейных прав. Намного более четко в СК РФ регламентировано такое недопустимое вмешательство, как разглашение тайны усыновления, и этот запрет распространяется на всех: и родственников, и органы власти, и третьих лиц, которым стало об этом известно.
Действительно, представляется, что «вмешаться» в какие-либо отношения – это значит совершить действие, влияющее на ход этих отношений, не будучи их изначальным участником. Другими словами, вмешаться в частные дела не может то лицо, которое было их субъектом с самого начала. Кроме того, следует отграничить вмешательство от обычного вступления в гражданско-правовые отношения, например, посредством заключения сделки. Основная отличительная черта вмешательства состоит в том, что оно происходит помимо желания других участников соответствующего правоотношения.
Различая законное и незаконное (произвольное) вмешательство, следует заметить, что законное вмешательство в дела семьи достаточно подробно изложено в СК РФ и других семейноправовых актах. Например, если супруги обращаются в суд с просьбой о разводе, и суд дает им время (до трех месяцев) на примирение и размышление – это и есть вмешательство в дела семьи, однако вмешательство, соответствующее закону. Но больше всего случаев вмешательства мы видим со стороны органов опеки и попечительства, которые обладают такой возможностью в целях защиты прав несовершеннолетних детей. Вмешательство в дела семьи осуществляют также прокурор и суд, например, в случае лишения родительских прав, для защиты интересов нетрудоспособных и нуждающихся членов семьи. Примером произвольного вмешательства могло бы стать требование органов публичной власти к молодоженам прийти на церемонию государственной регистрации брака в одежде определенного цвета (или установить штраф за нарушение этих требований). Однако такое решение означало бы избыточное вмешательство государства в частную жизнь граждан, тем более, что в данной сфере общественных отношений существует достаточно традиций, которые граждане соблюдают добровольно.
В большинстве стран СНГ право на защиту от незаконного вмешательства государства и третьих лиц в личную (в том числе семейную) жизнь граждан гарантировано их конституциями. При этом, например, такие положения ст. 28 Конституции Республики Беларусь конкретизированы в гражданско-правовом принципе недопустимости произвольного вмешательства в частные дела: «Вмешательство в частные дела не допускается, за исключением случаев, когда такое вмешательство осуществляется на основании правовых норм в интересах национальной безопасности, общественного порядка, защиты нравственности, здоровья населения, прав и свобод других лиц» (ст. 2 Гражданского кодекса Республики Беларусь).
Исходя из анализа содержания данного принципа, белорусские ученые предлагают сделать следующие выводы: «Во-первых, естественное право на неприкосновенность частной жизни не абсолютизируется законодателем, поскольку допускается возможность его ограничения; во-вторых, обнаруживается коллизия между содержанием конституционной нормы, допускающей ограничение прав и свобод личности только на основании закона (ст. 23 Конституции Республики Беларусь), и ст. 2 Гражданского кодекса Республики Беларусь, в которой термин “закон” заменен значительно более широким по содержанию термином “правовая норма”; в-третьих, законодатель оперирует терминами “личная жизнь” и “частные дела”, не раскрывая их содержания. Вместе с тем нельзя не отметить, что эти понятия оценочные и сформулировать их строгую логическую дефиницию не представляется возможным, что, с одной стороны, вызывает потребность в их доктринальном осмыслении, а с другой – необходимость в более подробном правовом регулировании отдельных нематериальных благ с целью обеспечения их адекватной защиты» [1, с. 12–13].
Соглашаясь с наличием указанной проблемы, все же следует заметить, что намного большее количество примеров произвольного вмешательства государства в дела семьи дает анализ деятельности органов опеки и попечительства, связанных с отобранием ребенка у родителей. Основанием для такой деятельности является ст. 77 СК РФ, согласно которой при непосредственной угрозе жизни ребенка или его здоровью орган опеки и попечительства вправе немедленно отобрать его у родителей или у тех лиц, на попечении которых он находится. Немедленное отобрание ребенка производится органом опеки и попечительства на основании соответствующего акта органа исполнительной власти субъекта РФ либо акта главы муниципального образования в случае, если законом субъекта РФ органы местного самоуправления наделены полномочиями по опеке и попечительству в соответствии с федеральными законами.
Следствием вмешательства вполне может быть лишение или ограничение родительских прав. Так, в силу п. 2 ст. 73 СК РФ, ограничение родительских прав допускается, если оставление ребенка с родителями опасно для ребенка по обстоятельствам, от родителей не зависящим (психическое расстройство или иное хроническое заболевание, стечение тяжелых обстоятельств и другие). Ограничение родительских прав допускается также в случаях, если оставление ребенка с родителями вследствие их поведения является опасным для ребенка, но не установлены достаточные основания для лишения родителей родительских прав. Если родители не изменят своего поведения, орган опеки и попечительства по истечении шести месяцев после вынесения судом решения об ограничении родительских прав обязан предъявить иск о лишении родительских прав. В интересах ребенка орган опеки вправе предъявить иск о лишении родителей (одного из них) родительских прав до истечения этого срока. Однако открытый перечень оснований ограничений родительских прав часто провоцирует чрезмерную активность органов опеки и попечительства, злоупотребление ими публичным интересом (о чем даже сообщают средства массовой информации). Например, воспитание ребенка одним из родителей, отсутствие собственного жилья, потеря работы в связи с сокращением штата, отсутствие дополнительных источников дохода и иные подобные обстоятельства могут быть в совокупности оценены органом опеки и попечительства как «стечение тяжелых обстоятельств». Поэтому следует поддержать вывод о том, что прежде, чем отбирать ребенка, органы опеки и попечительства должны оказать содействие семье в получении необходимой помощи [6, с. 131].
С мнением об отсутствии в ст. 77 СК РФ четких критериев и оснований для отобрания ребенка у родителей согласны и другие авторы, отмечающие, что нужны более конкретные формулировки и законодательные дефиниции, причем «основное усилие государства должно быть направлено на поддержку семьи, восстановление традиционных семейных ценностей и укрепление семейного благополучия, а не на то, чтобы внушить страх родителям и боязнь обратиться в медучреждение, если ребенок пострадал от случайного падения, так как есть вероятность, что придут из опеки и поставят семью на учет» [14, с. 195–196].
Более того, отмечается, что сейчас само «наличие в семье несовершеннолетнего ребенка является достаточным основанием для вмешательства, нередко бесцеремонного, представителей органов опеки и попечительства, а также органов внутренних дел во внутренние дела семьи, проникновения в жилище, для постановки семьи на учет как находящейся в социально опасном положении, и контроля за такой семьей, в том числе с применением мер индивидуальной профилактической работы и с детьми, и с их родителями» [8, с. 20].
Как ни парадоксально, но проведенная в феврале 2017 г. декриминализация семейного насилия (соответствующий закон перевел побои, наносимые близким родственникам, из категории уголовных преступлений в административные правонарушения, если такой проступок совершен впервые) осуществлена в соответствии с исследуемым принципом, поскольку уменьшает произвольное вмешательство государства в дела семьи, в данном случае в части бытового насилия3. Однако данный закон породил другую дискуссию – о том, где проходит грань между публичными интересами государства и частными интересами семьи, где грань между произволом и законным вмешательством государства в семейные дела. Сторонники одной позиции утверждают, что наличие уголовной ответственности за побои выполняло превентивную функцию, предотвращая рост насилия в семье; дру- гие считают, что российские «традиционные семейные ценности» допускают такие акты рукоприкладства («бьет – значит любит»). Однако факт состоит в том, что в результате принятия закона количество случаев домашнего насилия увеличилось почти в 3 раза. При этом в государственной статистике отображаются всего 3 % случаев таких побоев4. Несомненно, данная дискуссия должна быть продолжена, однако очевидно, что принятый в 2017 г. Федеральный закон № 8-ФЗ5 не решил проблему, а только усугубил ее, что требует разработки комплекса мер по профилактике семейного насилия и поиска баланса между законным и произвольным вмешательством в семейные дела. Из вышеизложенного вытекает вопрос о том, каков критерий допустимости вмешательства в семейные дела.
Один из возможных вариантов ответа на него был предложен Конституционным Судом РФ. В постановлении Конституционного Суда РФ от 3 июля 2001 г. № 10-П «По делу о проверке конституционности отдельных положений подпункта 3 пункта 2 статьи 13 Федерального закона “О реструктуризации кредитных организаций” и пунктов 1 и 2 статьи 26 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций” в связи с жалобами ряда граждан»6 Конституционный Суд РФ указал, что публичноправовое вмешательство в частноправовые отношения должно основываться на общеправовом принципе соразмерности и пропорциональности вводимых ограничений.
Безусловно, в данном случае перед нами очередная оценочная категория, однако учитывая, что данный принцип широко применяется в ряде зарубежных стран, можно предложить разработать механизм его адаптации к особенностям российской правовой системы. Думается, что основной смысл соразмерности и пропорциональности ограничений семейных прав граждан должен заключаться в адекватности нормативного регулирования такого вмешательства фактическим обстоятельствам, породившим данный вопрос, причем важно при определении данных критериев учитывать существующие в обществе представления о целесообразности государственного вмешательства.
Проведенное исследование позволяет сделать следующие выводы:
-
1. Вмешательство – это действия постороннего лица, влияющие на реализацию семейных прав без согласия членов семьи. Со стороны государственных и муниципальных органов вмешательство в дела семьи может выражаться как в форме правотворчества (декриминализация домашнего насилия), так и индивидуального правоприменения (деятельность органов опеки и попечительства по отобранию детей у родителей, лишение их родительских прав).
-
2. Не являются произвольным вмешательством в дела семьи действия, совершаемые в соответствии с законом и отвечающие принципу соразмерности и пропорциональности. При проверке произвольности или допустимости вмешательства следует проверять нормативные и фактические основания оцениваемых действий, а также наличие соразмерности между этими основаниями.
-
3. В настоящий момент нормативная реализация принципа запрета произвольного вмешательства в дела семьи носит противоречивый характер. С одной стороны, декриминализация семейного насилия – это уменьшение вмешательства государства и общества в дела семьи, с другой стороны, мы видим усиление роли ювенальной юстиции (и даже появление в некоторых странах ювенальных судов), что позволяет говорить об увеличении вмешательства государства в дела семьи. Представляется более логичным поменять местами эти тенденции – уменьшить возможности произвола ювенальной юстиции и вернуть уголовную ответственность за семейные побои. Это и будет наилучшей формой реализации принципа соразмерности и пропорциональности, в силу которого семейные права могут быть ограничены только на основании федерального закона и лишь в той мере, в какой это необходимо для защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны и безопасности государства.
Список литературы Принцип недопустимости произвольного вмешательства в дела семьи
- Бондаренко Н. Л. Устранение пробелов в гражданском законодательстве в целях защиты прав физических лиц и реализации принципов гражданского права // Актуальные проблемы гражданского права. 2016. № 1. С. 6-18.
- Вавилин Е. В. Осуществление и защита гражданских прав. М., 2009. 338 с.
- Гражданское право: учеб.: в 2 ч. / отв. ред.: В. П. Мозолин, А. И. Масляев. М., 2005. Ч. 1. 719 с.
- Дерюгина Т. В. Принципы осуществления гражданских прав: моногр. М., 2010. 188 с.
- Дикова И. А. Регулирование отношений, возникающих при применении вспомогательных репродуктивных технологий, в семейном и гражданском праве России: автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2011. 24 с.
- Замрий О. Н. О предпосылках злоупотребления публичным интересом со стороны органов опеки и попечительства // Седьмой пермский конгресс ученых-юристов: материалы всерос. науч.-практ. конф. (Пермь, ПГНИУ, 18-19 нояб. 2016 г.). Пермь, 2016. С. 129-132.
- Кашанина Т. В. Оценочные понятия в советском праве // Правоведение. 1976. № 1. С. 25-31.
- Корнакова С. В., Чигрина Е. В. Недопустимость произвольного вмешательства в дела семьи государственных органов и должностных лиц через призму социального патроната // Baikal Research Journal. 2016. Т. 7, № 4. С. 20.
- Косач А. С. Принцип недопустимости произвольного вмешательства в частные дела в российском гражданском праве: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Краснодар, 2007. 22 с.
- Кузнецова О. А. Специализированные нормы российского гражданского права: теоретические проблемы: автореф. дис. … д-ра юрид. наук. Екатеринбург, 2007. 43 с.
- Лукьяненко М. Ф. Оценочные понятия гражданского права: теоретико-правовой анализ и практика правоприменения: автореф. дис. … д-ра юрид. наук. М., 2010. 53 с.
- Лукьяненко М. Ф. Оценочные понятия как инструмент судебного регулирования гражданских правоотношений // Правовая политика и правовая жизнь. 2002. № 4. С. 179-184.
- Российское гражданское право: учеб.: в 2 т. / отв. ред. Е. А. Суханов. М., 2014. Т. I: Общая часть. Вещное право. Наследственное право. Интеллектуальные права. Личные неимущественные права. 961 с.
- Сабитова Э. Н. Механизм защиты детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации: постановка проблемы // Седьмой пермский конгресс ученых-юристов: материалы всерос. науч.-практ. конф. (Пермь, ПГНИУ, 18-19 нояб. 2016 г.) / отв. ред. В. Г. Голубцов, О. А. Кузнецова. Пермь, 2016. С. 195-196.
- Страунинг Э. Л. Самозащита гражданских прав: дис. … канд. юрид. наук. М., 1999. 168 с.
- Фетисов О. Е. Оценочные понятия в праве: проблемы теории и практики: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Тамбов, 2009. 23 с.