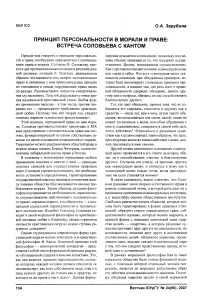Принцип персональности в морали и праве: встреча Соловьева с Кантом
Бесплатный доступ
В статье предпринята попытка осветить проблему персональности в морали и праве через сопоставление подходов И. Канта и B.C. Соловьева. В естественно-правовой концепции Канта принцип персональности обосновывается в рамках индивидуальной этики с позиций категорического императива. В философии права Соловьева - в русле социальной этики через формулу естественного права: «свобода, обусловленная равенством» В статье проводится сравнительный анализ воззрений обоих мыслителей и выявляется их единодушие, в рассмотрении самоценности каждой личности.
Короткий адрес: https://sciup.org/147150493
IDR: 147150493
Текст научной статьи Принцип персональности в морали и праве: встреча Соловьева с Кантом
Прежде чем говорить о принципе персонально-сти в праве, необходимо определиться с соотношением права и морали. Согласно В. Соловьеву, имеются две противоположные позиции в решении данной диллемы: позиция Л. Толстого, радикальным образом поставившего под вопрос положительное право и связанные с ним принудительные санкции по отношению к лицам, нарушающих права своих сограждан. Руководствуясь лозунгом «непротивления злу насилием», Толстой, рассуждает с точки зрения радикальной христианской этики. Любая форма применения насилия - в том числе, против творящих зло — противоречит требованию христианской любви. Поэтому тем, кто творит зло, следует отвечать мирным «словесным вразумлением»1.
Этой позиции, отрицающей право во имя морали, Соловьев противопоставляет крепнущее в XIX веке представление о положительном праве как системе, функционирующей по своим собственным законам и в своих основаниях независимой от морали. Теоретиком четкого разграничения областей права и морали можно назвать Бориса Чичерина, основоположника либеральной школы права в России.
В полемике с толстовским отрицанием любого применения насилия и вместе с ним — принудительных санкций для осуществления правовых норм, Соловьев стремиться показать, что необходимость установить определенные, гарантированные государственной властью правовые отношения между членами общества обуславливаются именно требованиями морали. Таким образом, русским философом подчеркивается необходимость гармоничного сосуществования действующего положительного права с нормами морали, в особенности — с концепцией социальной справедливости и человеческого достоинства. Подобно Толстому, Соловьев исходит в своей моральной философии из христианской заповеди любви к ближнему, однако стремится «возвести христианскую веру на новую ступень разумного сознания»2.
Однако эту разумную и современную форму христианской морали можно усмотреть и в нравственной философии И. Канта. Основной принцип этой философии — категорический императив - представляет собой чисто формальный принцип разума, но обогащенный содержательными аспектами. Это, как нам видится, принцип персональное™, согласно которому каждый человек должен относится «к человечеству», как в его собственном лице, «так и в лице всякого другого, не только как к средству, но всегда в то же время и как к цели»3. Данная форму лировка нуждается в пояснении, поскольку под целями обычно понимается то, что подлежит осуществлению. Целям, подлежащим осуществлению, Кант противопоставляет понятие «самосущей цели» или «цели в себе». Что есть «самосущая цель» становится понятным при обсуждении примеров, которые Кант анализирует с помощью принципа персональное™, а именно там, где речь идет о правовой обязанности сдержать обещание, данное другому или о вопросе, обязаны ли мы способствовать благополучию другого.
Тот, кто дает обещание, заранее зная, что не собирается его сдержать, относится к другому как к средству — «ведь тот, кем я хочу, путем такого обещания, воспользоваться для своих целей, никак не может согласиться с моим способом обращения с ним и, следовательно, содержать в самом себе цель этого действия»4. Относиться к разумным существам как к целям означает, таким образом, что цель, преследуемая мною во взаимодействии с ними, должна признаваться ими самими.
Другой нюанс кантовского понимания «самосущей цели» проявляется в его ответе на вопрос, обязан ли я способствовать счастью и благополучию другого. Согласно его ответу, «я признаю другого как «самосущую цель», и отношусь к нему как к «самосущей цели» только тогда, когда преследуемые им цели становятся моими»5
В свете сказанного, важно отметить, что Соловьев развивает свою теорию естественного права в рамках социальной этики, в которой речь идет не о принципах ориентации индивидуальных поступков, а о масштабах оценки общественных институтов. Свобода и равенство членов общества, которые должны быть гарантированы в форме правовых отношений, образуют строго определенную грань «общественного идеала», который можно выразить в краткой форме с помощью кантовской идеи «царства целей» — «царства», в котором разумные существа признают друг друга в их самоценности, по возможности, помогая друг другу в достижении поставленных целей. «Взаимное уважение, проявляемое здесь людьми, связано в значительной мере с тем, что они следуют нравственному закону, который сами и установили»6.
В рамках моральной философии Канта такое идеальное общество было только фиктивной моделью, с помощью которой отдельный человек мог решить, является ли морально допустимым образ его действия или выражающие его максимы. Поэтому, обсуждая «царство целей» в своей моральной
О.А. Зарубина философии, Кант ограничивается сферой индивидуальной этики.
Для Соловьева, напротив, эта модель становится масштабом для критической оценки исторически конкретных общественных отношений, где социальная справедливость является только одним аспектом обозначенного идеала, соответствуя одному из положений принципа персональности, именно запрету использовать другого в качестве простого средства для достижения собственных целей. Общественное устройство, при котором каждый индивид признает другого как позитивную «самосущую ценность», способствуя осуществлению его интересов и целей, обозначается Соловьевым как социальная утопия, и потому не нуждается в детальном рассмотрении в контексте анализа его понимания права и социальной справедливости. Гораздо важнее для русского философа показать, что естественное право, действует не на догосударственной ступени развития общества, как в теориях Локка, Гоббса, Руссо, а представляет собой основополагающую формальную структуру положительного правопорядка.
Таким образом, каркас концепции естественного права Соловьева, выражен в формуле: «Право есть свобода, обусловленная равенством»7. Из чего вытекают отношения взаимного признания субъектов, которые сталкиваются друге другом, стремясь реализовать свободу своего действия.
Согласно Соловьеву, существенная особенность правовых предписаний заключается в том, что следование им может быть осуществлено также против воли тех, к кому они обращены. В этом осуществлении заключается задача государства, которое Соловьев обозначает как «правомерное»: посредством угрозы применения силы в случае правонарушения, такое государство контролирует исключительно внешний способ действия, но не убеждения отдельных лиц, скрывающиеся за следованием этим правовым нормам. «С правовой точки зрения отдельный человек имеет право преследовать свои конкретные, в том числе предосудительные с точки зрения морали, цели до тех пор, пока они не задевают права других»8.
Государство является для Соловьева не чем иным, как гарантом соблюдения правового порядка, цель которого заключается в том, чтобы добиться «общей пользы» в смысле согласования интересов или сфер действия отдельных граждан и общественных групп.
Такая трактовка государства и социальной справедливости основана на концепции естественного права, в которой «право является лишь тогда правом, когда мое свободное действие встречается с таким же свободным действием «другого». Здесь, то есть по отношению к этому другому, моя свобода, которая выражала первоначально только мою силу, утверждается как мое право, то есть как нечто должное, или обязательное «для другого». Обязательное потому, что если свобода в равной степени присуща каждому лицу как таковому, то, отрицая свободу «в другом», я теряю объективное основание своей собственной свободы»9.
Данное определение права Соловьевым демонстрирует близость правовому принципу Канта, выраженному в дефиниции: «Прав любой поступок, который или согласно максиме которого свобода произвола каждого совместима со свободой каждого в соответствии со всеобщим законом. Таким образом, если мой поступок совместим со свободой каждого, сообразно со всеобщим законом, то тот кто препятствует мне в этом, неправ»10.
При этом концепции обоих мыслителей обнаруживают два существенных отличия:
-
1. Хотя у Канта, как и у русского философа, речь идет об определении принципов естественного права, это последнее означает для него некий априорно содержащийся в разуме — масштаб для оценки и критики того или иного положительного правопорядка. Для раннего Соловьева естественное право, обобщенное в формуле «свобода, обусловленная равенством», образует лишь формальную структуру положительного права. Только вопреки собственной интенции Соловьева оно приобретает затем нормативное измерение, что позволяет вывести из него определенные основополагающие права. Кант, напротив, эксплицитно показывает, что существует только одно прирожденное и неотъемлемое право человека, вытекающее из установленного философом априорного принципа права.
-
2. Также и конститутивные для правовых норм принудительные санкции по-разному трактуются каждым из мыслителей: короткой и четкой аргументации Канта противостоит развернутое, исходящее из нравственных оснований обоснование принуждения и легитимного применения силы в соловьевском «Оправдании добра». Для Канта каждое нарушение права означает помеху' легитимного осуществления свободы согласно всеобщему закону. Тот, кто противопоставляет этому неправомерному использованию свободы принуждение, устраняет помеху легитимного осуществления свободы и потому не совершает несправедливости по отношению к нарушителю прав. Таким образом, юридические принудительные санкции аналитически связываются для Канта с функциональным определением правовых норм как ограждающих от нарушений свободы действия отдельного лица, которая, согласно всеобщему закону, может существовать только вместе со свободой всех других.
Ранний Соловьев мог перенять подобное легитимное применение насилия или угрозы его применения для защиты претерпевших несправедливость из традиционного права, изначально не предлагая для него дальнейшего обоснования. Влиятельное
Философия
толстовское учение о непротивлении злу насилием побуждает его, однако в «Оправдании добра» дать эксплицитное обоснование принудительных санкций, руководствующееся внеправовой, моральной точкой зрения.
Список литературы Принцип персональности в морали и праве: встреча Соловьева с Кантом
- Толстой, Л.Н. Письмо студенту о праве//Л.Н. Толстой. Полное собрание сочинений в 90 т. -М., 1936. -Т. 38. -С. 52-61. 2
- Соловьев, B.C. История и будущность теократии//B.C. Соловьев. Собрание сочинений/под ред. СМ. Соловьева, Э.Л. Радлова. -М. -Т. 4. -С. 243. 3
- Кант, И. Основоположение к метафизике нравов//И. Кант. Сочинения.-М., 1997.-Т. 3. -С. 169. 4 Там же. С. 171. 5 Там же. С. 172. 6 Там же. С. 167. 7
- Соловьев, B.C. Критика отвлеченных начал//B.C. Соловьев. Соч. в пятнадцати томах. М. -Т. 3. -С. 145. 8 Там же. С. 146. 9Там же. С. 144. 10
- Кант, И. Метафизика нравов//И. Кант. Основы метафизики нравственности. Критика практического разума. Метафизика нравов. -СПб., 1995. -С. 285.