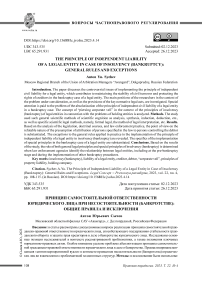Принцип самостоятельной ответственности юридического лица при несостоятельности (банкротстве): общие правила и исключения
Автор: Сычев А.Ю.
Журнал: Legal Concept @legal-concept
Рубрика: Вопросы частноправового регулирования: история и современность
Статья в выпуске: 4 т.22, 2023 года.
Бесплатный доступ
Введение: в статье рассмотрены дискуссионные вопросы реализации принципа самостоятельной гражданско-правовой ответственности юридического лица, способствующего поддержанию стабильности гражданского оборота и защите прав кредиторов в деле о банкротстве юридического лица. Исследованы основные позиции исследователей в контексте рассматриваемой проблематики, а также положения ключевых нормативно-правовых актов. Особое внимание уделено проблеме абсолютизации принципа самостоятельной гражданско-правовой ответственности юридического лица в деле о банкротстве. Проанализирована концепция «снятия корпоративной вуали» в контексте принципов несостоятельности (банкротства) юридических лиц во взаимосвязи с проблематикой холдинговых структур. Методы: в исследовании были использованы такие общенаучные методы научного познания, как анализ, синтез, индукция, дедукция и пр., а также частно-научные юридические методы, а именно формально-юридический, метод юридического толкования и др. Результаты: на основе анализа законодательства, доктринальных источников и правоприменительной практики обоснована точка зрения об опровержимом характере презумпции отнесения лиц, указанных в законе, к лицам, контролирующим должника. Выявлены применяемые на практике исключения из общих правил при реализации принципа самостоятельной ответственности юридического лица при несостоятельности (банкротстве). Обоснована специфика реализации специальных принципов в деле о банкротстве юридического лица. Выводы: по итогам проведенного исследования определена роль как общеправовых принципов, так и специальных принципов несостоятельности (банкротства) при выявлении правоприменительными органами взаимосвязи юридических лиц, в том числе на предбанкротном» этапе и в период реализации иных процедур банкротства.
Несостоятельность (банкротство), ответственность юридического лица, кредитор, должник, «корпоративная вуаль», принципы имущественной ответственности, холдинг
Короткий адрес: https://sciup.org/149145031
IDR: 149145031 | DOI: 10.15688/lc.jvolsu.2023.4.14
Текст научной статьи Принцип самостоятельной ответственности юридического лица при несостоятельности (банкротстве): общие правила и исключения
ж ®
DOI:
Принцип самостоятельной гражданско-правовой ответственности юридического лица является одним из ключевых принципов, направленных на поддержание стабильности гражданского оборота в контексте удовлетворения интересов кредиторов. В то же время анализ практики, а также объем подаваемых кредиторами жалоб и обращений кредиторов, свидетельствует о том, что содержание рассматриваемого принципа подвергается изменению, в связи с чем сделать однозначный вывод о его универсальности уже может быть затруднительно.
Так, ранее в юридической доктрине и зарубежной правоприменительной практике существует хрестоматийное правило, которое фактически сводится к абсолютизации самостоятельной ответственности юридического лица по своим обязательствам с одновременной ограниченной ответственностью его участников [8, с. 103–106]. В то же время абсолютизация принципа с практической точки зрения, очевидно, приводила бы к нарушению интересов кредиторов, ведь при недостаточности имущества юридического лица привлечь кого-либо, кроме как юридическое лицо, к ответственности по обязательствам невозможно (например, кредитор в таком случае не сможет привлечь к ответственности контролирующих лиц долж-ника-юридического лица) [13, c. 93; 15, c. 22].
Отечественное законодательство свидетельствует о том, что концепция абсолютиза- ции не была воспринята (п. 4 ст. 399 ГК РФ). Такой подход с точки зрения соблюдения интересов кредиторов в процедуре банкротства [9, c. 125] заслуживает одобрения. При этом стоит согласиться с исследователями, которые обращают внимание на проблему абсолютизации рассматриваемого принципа недобросовестными должниками, особенно в условиях явной недостаточности имущества и невозможности всем кредиторам в подобных условиях рассчитывать на полное удовлетворение заявленных требований из конкурсной массы [17, c. 32; 24, с. 13].
В данном контексте также следует отметить, что возможность привлечения к субсидиарной ответственности руководителя должника или иных лиц в деле о банкротстве прямо предусмотрена гл. III.2 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве). Однако закрепленный в законе механизм является исключительным с точки зрения восстановления нарушенных прав кредиторов и не может применяться произвольно [16].
Практические вопросы ограниченной ответственности юридического лица в деле о банкротстве
Негативные последствия нарушения принципа, который с определенной долей условности можно назвать принципом «ограниченной» самостоятельности юридического лица, могут приобретать в правоприменительной практике самый разнообразный характер. Наиболее распространенным противоправным деянием является умаление прав кредиторов путем вывода имущества из конкурсной массы. В то же время невозможность взыскания с юридического лица в процессе банкротства обусловливает привлечение к ответственности лиц, контролирующих должника [5, c. 12].
В их числе:
– лица, обязанные к ведению (или, что шире – организации ведения) бухгалтерского учета, хранения документов такого учета (финансовой отчетности);
– лица, имеющие статус единоличного исполнительного органа должника (контролирующим должника лицом) при соблюдении ряда условий (наличие факта привлечения к юридической ответственности, размер задолженности, «очередность» кредиторов и т. п.);
– лицо, имеющее статус единоличного исполнительного органа юридического лица, либо не сохранившее (исказившее) информацию, которую обязано было хранить в силу требований закона;
– лицо, имеющее статус единоличного исполнительного органа юридического лица, либо лица с возложением обязанности внесения необходимых сведений в Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц;
– контролирующее лицо, если им (в его пользу, по его указанию) одобрены одна или более сделок должника, что обусловило существенный вред кредиторам.
Законом о банкротстве установлена презумпция наличия статуса лица, контролирующего должника (руководитель должника, управляющая организация должника, ликвидатор должника и т. п.) и права самостоятельно (с заинтересованными лицами) распоряжаться 50 и более процентами голосующих акций акционерного общества (более чем половиной доли уставного капитала общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью и т. п.);
– лицо, которое воспользовалось противоправными деяниями (действиями или бездействиями) лиц, обозначенных в п. 1 ст. 53 ГК РФ.
Более того, суд может признать и иных субъектов лицами, контролирующими долж- ника (кроме тех, которые владеют менее чем 10 % уставного капитала юридического лица и получают обычный доход, обусловленный таким владением).
Итак, мы имеем опровержимую презумпцию: лицо, участвующее в органах юридического лица, имеет статус контролирующего его лица. Кроме того, руководитель должника может привлекаться к субсидиарной ответственности при игнорировании обязанности подать в суд заявление должника о собственном банкротстве.
При уже начатых анализируемых процедурах должнику вред может быть причинен конкурсным управляющим, иными лицами (совместно или самостоятельно); причем для суда не имеет юридического значения тот факт, что эти лица, например, не могли контролировать юридическое лицо до начала процедур несостоятельности (банкротства) [14].
Возможно, здесь имеет место и специальный принцип особой (внеделиктной) ответственности юридического лица. Стоит согласиться с мнением о том, что деликтная ответственность в анализируемых отношениях не применима и «является излишней»; права кредиторов обеспечивает институт субсидиарной ответственности [3, c. 36].
Очевидно, что в анализируемых процедурах все же имеет исключение из общего правила, то есть общей концепции, которую Е.А. Суханов удачно охарактеризовал как некий «корпоративный щит», как «форму ограничения или исключения имущественной ответственности его учредителей (участников)» [20, c. 10].
Однако этой концепции корреспондирует концепция «снятия корпоративного покрова» (чаще – «корпоративной вуали») [4, c. 3; 10, c. 43] и т. д.
Следует в целом признать справедливость утверждения о том, что процедура «снятия корпоративного покрова» никогда не рассматривалась ни ведущими учеными-правоведами, ни судьями в качестве нормы» [12, c. 13]. Скорее, речь идет о правовом принципе, который не носит универсального характера. Это подтверждают высказывания исследователей о том, что «концепция снятия корпоративной вуали соответствует требованиям справедливости» [6, c. 2] и «доктрину снятия корпоративной вуали имеет смысл рассматривать в общем контексте борьбы со злоупотреблениями в корпоративных отношениях» [2, c. 125].
Проблемы применения концепции «снятия корпоративной вуали» в холдинговых структурах
Концепция «снятия корпоративной вуали» в контексте принципов несостоятельности (банкротства) юридических лиц связана с очень актуальной проблематикой холдинговых (аффилированных и т. д.) структур.
Некоторые авторы исследуют концепцию «снятия корпоративной вуали» в так называемом «широком смысле» применительно к холдинговым структурам для расширения перечня лиц, обусловивших несостоятельность юридического лица [23, c. 8].
Не вдаваясь подробно в тематику холдинговых структур, отметим два принципиальных, на наш взгляд, момента. Во-первых, закрепить понятие «холдинг», «концерн» и т. п. в законодательстве пытались давно. Законодатель, закрепляя в корпоративном законодательстве термин «иные связи», по сути, подтверждал невозможность выявить их и обеспечить правовое регулирование; соответственно, от этой терминологии, как, впрочем, и самой идеи «урегулировать холдинги» отказались (за отдельными исключениями типа банковских холдингов [21]). Однако соответствующие попытки продолжают иметь место, о чем свидетельствует принятый в 2023 г. закон, содержащий категорию «экономически значимой организации» [22].
Во-вторых, именно в таких группах (условно назовем их холдинговые структуры) происходит наибольшее количество противоправных деяний и фактов нарушений прав как кредиторов, так и должников в процессе использования процедур несостоятельности (банкротства).
В целом отсутствие «универсальной» дефиниции холдинг (концерн и т. п.) не препятствует правоприменительным органам выявлять взаимосвязь юридических лиц, в том числе на «предбанкротном» этапе и в период реализации анализируемых процедур. Разрешать эту задачу во многом помогает исполь- зование как общеправовых принципов, так и специальных принципов несостоятельности (банкротства) [23, c. 10; 1, c. 103].
Целесообразность выделения и использования в процедурах несостоятельности (банкротства) принципа ограниченной самостоятельности юридического лица прямо или косвенно подтверждают многие ученые, когда, например, констатируют, невозможность абсолютизации этой самостоятельности, а также ориентир на эту установку в случаях преобладающего участия «головной» структуры в уставном капитале дочернего общества [13, c. 104].
Заслуживают внимания и иные специальные принципы, например принцип вины. Законодательно закреплено, что в случае несостоятельности (банкротства) дочернего общества по вине основного хозяйственного общества (товарищества) последнее несет субсидиарную ответственность по его долгам.
Впрочем, далеко не все исследователи разделяют эту позицию, отмечая, что принцип вины в процессе привлечения к субсидиарной ответственности далеко не всегда может быть обоснованно применен (сложно доказать причинно-следственную связь между виновными действиями основного общества и появлением признаков несостоятельности у дочернего и т. п.) [11, c. 10].
В холдинговых структурах (еще раз подчеркнем условность такого наименования) применение, например, принципа вины приобретает особое значение. В частности, де фак-то в такой структуре может иметь место несколько единоличных исполнительных органов. Относительно их ответственности в правоприменительной практике сформировались позиции, по смыслу которых, во-первых, директора солидарно несут субсидиарную ответственность в случае закрепления этого в учредительных документах, и во-вторых, не подлежит распределению обязанность по подаче заявления о банкротстве (это всегда общая компетенция директоров, ею не может быть наделен только один директор) [16].
В то же время анализ законодательства свидетельствует о том, что даже с учетом наличия как общих, так и специальных принципов, которых необходимо придерживаться в рамках процедуры банкротства, вопросы о реализации такой процедуры в отношении членов предпринимательской группы или ее самой урегулированы недостаточно, что порождает дискуссии в доктрине о правосубъектности и кон-курсоспособности предпринимательской группы в делах о банкротстве» [7, c. 29].
В этом плане исследователи акцентируют внимание на вопросе о наличии у холдинга (предпринимательской группы и т. п.) так называемой «частичной правосубъектности» при реализации процедур несостоятельности (банкротства) [18, c. 114]. Впрочем, такой подход, очевидно, имеет небесспорный характер [19, c. 41].
В заключение отметим, что некоторые авторы выделяют и другие взаимосвязанные принципы несостоятельности (банкротства) применительно к анализируемым группам юридических лиц (холдинги, предпринимательские группы и т. п.):
– приоритета реабилитационных процедур;
– презумпции единства имущества и имущественных прав холдинга (предпринимательской группы);
– презумпции единства обязательств;
– недопустимости совместной несостоятельности (банкротства) физического лица и анализируемой группы и др. [7, c. 34].
Выводы
Итак, спорные аспекты абсолютизации принципа самостоятельной ответственности юридического лица, в том числе при реализации процедур несостоятельности (банкротства) представляются нам достаточно очевидными. Понимание юридического лица как абсолютно самостоятельного субъекта с исключительно ограниченной ответственностью может нарушить права кредиторов (например, лишить возможности возложить на контролирующих лиц ответственность по его обязательствам). Такая концепция «абсолютизации», соответственно, не была воспринята российским законодателем. Не вдаваясь подробно в тематику холдинговых структур, мы отметили в статье два принципиальных, на наш взгляд, момента. Во-первых, закрепить понятие «холдинг», «концерн» и т. п. в законодательстве пытались давно, но от идеи, «урегулировать холдинги» отказались (за отдельными исключениями типа банковских холдингов).
Однако соответствующие попытки продолжают иметь место, о чем свидетельствует принятый в 2023 г. закон, содержащий категорию «экономически значимой организации». Во-вторых, именно в таких группах (условно назовем их холдинговые структуры) происходит наибольшее количество противоправных деяний и фактов умаления прав как кредиторов, так и должников в процессе использования процедур несостоятельности (банкротства).
В целом отсутствие «универсальной» дефиниции понятий холдинг, концерн и т. п. не препятствует правоприменительным органам выявлять взаимосвязь юридических лиц, в том числе на «предбанкротном» этапе и в период реализации анализируемых процедур. Разрешать эту задачу во многом помогает использование как общеправовых принципов, так и специальных принципов несостоятельности (банкротства).
Список литературы Принцип самостоятельной ответственности юридического лица при несостоятельности (банкротстве): общие правила и исключения
- Артемова, А. Н. Фиктивная сущность юридического лица как основание для применения доктрины «снятия корпоративной вуали» / А. Н. Артемова // Российский юридический журнал. – 2018. – № 1. – С. 101–107.
- Будылин, С. Л. Срывая покровы. Доктрина снятия корпоративной вуали в зарубежных странах и в России / С. Л. Будылин, Ю. Л. Иванец // Вестник ВАС РФ. – 2013. – № 7. – С. 80–125.
- Гутников, О. В. Основания разработки категории корпоративной ответственности в гражданском праве / О. В. Гутников // Право. Журнал Высшей школы экономики. – 2019. – № 4. – С. 4–30.
- Гутников, О. В. Ответственность перед кредиторами в корпоративных отношениях: тенденции и перспективы развития правовых норм / О. В. Гутников // Журнал российского права. – 2014. – № 7. –
- С. 3–4. 5. Законодательство о банкротстве: преемственность и новации: монография / П. Р. Абдуллаева [и др.] ; отв. ред. С. А. Карелина, И. В. Фролов. – М.: Юстицинформ, 2023. – 348 с.
- Золотарева, А. Б. Отечественный законодатель срывает корпоративную вуаль / А. Б. Золотарева // Право и экономика. – 2015. – № 2. – С. 29–34.
- Иванова, Д. О. О принципе конкурсоспособности предпринимательской группы применительно к доктрине банкротного права / Д. О. Иванова // Предпринимательское право. – 2023. – № 2. – С. 27–35.
- Кибенко, Е. Р. Корпоративное право Великобритании. Законодательство. Прецеденты. Комментарии / Е. Р. Кибенко. – Киев: Юстиниан, 2003. – 363 с.
- Казаченок, С. Ю. Правовые вопросы погашения требований конкурсных кредиторов в контексте реформирования Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» / С. Ю. Казаченок // Legal Concept = Правовая парадигма. – 2022. – Т. 21, № 1. – С. 122–128. – DOI: https://doi.org/10.15688/lc.jvolsu.2022.1.17
- Колонтаевская, И. Ф. Проблемы взаимодействия корпоративного права России и зарубежных стран. Доктрина «снятия корпоративной вуали» / И. Ф. Колонтаевская // Вестник Московского университета им. С. Ю. Витте. Серия 2, Юридические науки. – 2014. – № 3. – С. 43–48.
- Лихтер, П. Л. Проникающая (объединяющая) ответственность в свете коллизий принципов гражданского права / П. Л. Лихтер // Российская юстиция. – 2019. – № 6. – С. 8–10.
- Ломакин, Д. В. Концепция снятия корпоративного покрова: реализация ее основных положений в действующем законодательстве и проекте изменений Гражданского кодекса РФ / Д. В. Ломакин // Вестник ВАС РФ. – 2012. – № 9. – С. 6–33.
- Ломакин, Д. В. Принцип самостоятельной ответственности юридического лица: правило и исключения / Д. В. Ломакин // Вестник гражданского права. – 2020. – № 1. – С. 93–110.
- Обзор судебной практики разрешения споров о несостоятельности (банкротстве) за 2022 г., утв. Президиумом Верховного Суда РФ 26.04.2023 // Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2023. – № 6.
- Пархоменко, А. Д. Субсидиарная ответственность как механизм противодействия злоупотреблению конструкцией юридического лица / А. Д. Пархоменко // Российский судья. – 2022. – № 5. – С. 21–24.
- Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 21.12.2017 № 53 «О некоторых вопросах, связанных с привлечением контролирующих должника лиц к ответственности при банкротстве» // Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2018. – № 3.
- Сапрыкин, А. А. К вопросу о конкурсоспособности предпринимательской группы / А. А. Сапрыкин // Вестник арбитражной практики. – 2022. – № 5. – С. 28–40.
- Сеньшин, А. Е. Правосубъектность предпринимательских групп в правоотношениях несостоятельности (банкротства) / А. Е. Сеньшин // Актуальные проблемы российского права. – 2022. – № 8. – С. 111–117.
- Славич, М. А. Множественность лиц на стороне должника в делах о несостоятельности (банкротстве) застройщиков / М. А. Славич // Юрист. – 2021. – № 5. – С. 37–42.
- Суханов, Е. А. Сравнительное корпоративное право / Е. А. Суханов. – М.: Статут, 2014. – 454 с.
- Федеральный закон от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности» // Российская газета. – 1996. – № 27.
- Федеральный закон от 04.08.2023 № 470-ФЗ «Об особенностях регулирования корпоративных отношений в хозяйственных обществах, являющихся экономически значимыми организациями» // Российская газета. – 2023. – № 175.
- Филатова, У. Б. Доктрина «снятия корпоративной вуали»: некоторые аспекты применения / У. Б. Филатова, О. В. Горбач // Гражданское право. – 2019. – № 1. – С. 7–10.
- Эрлих, М. Е. конфликт интересов в процессе несостоятельности (банкротства): правовые средства разрешения: автореф. дис. ... канд. юрид. Наук / Эрлих Маргарита Евгеньевна. – М., 2012. – 23 с.