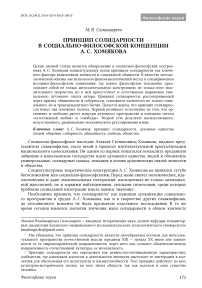Принцип солидарности в социально-философской концепции А. С. Хомякова
Автор: Салимгареев Максим Владимирович
Журнал: Христианское чтение @christian-reading
Статья в выпуске: 1 (78), 2018 года.
Бесплатный доступ
Целью данной статьи является обнаружение в социально-философских построениях А. С. Хомякова концептуальных основ принципа солидарности как ключевого фактора взаимосвязи личности и социальной общности. В качестве методологической основы мы используем феноменологический метод в специфическом историко-философском понимании, где всякое философское изложение представляет собой не только интеллектуальную конструкцию, не только итог мыс- лительного творчества, но в нем присутствует и естественное выражение уникального духовного опыта автора. Принцип солидарности, рассматриваемый через призму общинности и соборности, становится элементом не только социального, но и трансцендентного бытия. Делается вывод, что принцип солидарности имеет два основных полюса. Первый возникает естественно из того, что органично и свободно растет изнутри духовного пространства и освещено светом «естественной любви» и «свободы». Второй есть результат насильственного, искусственного, рационально-механического регулирования извне
А. с. хомяков, принцип солидарности, духовное единство людей, общение, соборность, общинность, свобода, общество
Короткий адрес: https://sciup.org/140223509
IDR: 140223509
Текст научной статьи Принцип солидарности в социально-философской концепции А. С. Хомякова
Социально-философское наследие Алексея Степановича Хомякова, видного представителя славянофилов, стало вехой в процессе интеллектуальной кристаллизации национального самосознания. Он одним из первых попытался осмыслить преданную забвению в николаевском государстве идею духовного единства людей и обозначить универсальные, солидарные начала, лежащие в основе органических связей личности и общества.
Социокультурные теоретические конструкции А. С. Хомякова не являются сугубо богословскими или социально-философскими. Перед нами синтез полемических, идеологических и даже эмоциональных построений, насыщенных не только антизападной идеологией, но и зоркими наблюдениями, смелыми гипотезами, среди которых проблема социальной интеграции имела важное значение1.
Необходимо признать, что солидарность2 как принцип организации социального пространства в трудах А. С. Хомякова, как и в творчестве других славянофилов, до сегодняшнего момента не была предметом отдельного исследования. В то же время сегодня имеются попытки изучения идеи солидарности в общем контексте
русской социальной философии и культуры3. Отдельно анализируются такие узловые для славянофилов компоненты солидаризации, как «соборность»4, «община»5, «народность»6, «государственность»7. Однако они не рассматриваются как элементы единой концепции солидарности ни у отдельных представителей, ни в этом направлении общественной мысли в целом.
В этой связи целью данной статьи является обнаружение в социально-философских построениях Хомякова концептуальных основ осмысления принципа солидарности как ключевого фактора взаимосвязи личности и социальной общности. В качестве методологической основы мы используем феноменологический метод в специфическом историко-философском понимании, где всякое философское изложение представляет собой не только интеллектуальную конструкцию, не только итог мыслительного творчества, в нем присутствует естественное выражение уникального духовного опыта автора.
В основе социально-философской теории А. С. Хомякова лежит понимание межличностного взаимодействия, обусловленного онтологическим принципом всеединства, заключающимся в идеальном соединении субъектов социального действия на всех уровнях общественного бытия. Исходным социокультурным и психологическим началом, фундаментом всякой солидарности, над которым выстраиваются базовые свойства общества и личности, философ видит общение. Как ключевая коммуникативная основа оно интегрирует социум, превращая совокупность множества личностей-субъектов не просто в сумму механических частей, а в органическое целое, некий единый организм. «Общение заключается не в обыкновенном обмене информации или эгоистическом предоставлении каких-либо услуг, в формальном уважении к чужим правам, взамен на уважение к своим, но в живом размене не понятий одних, но чувств, в общении воли, в разделении не только горя, ибо сострадание — чувство слишком обыкновенное, но и радости жизненной. Только такого рода общение может возвратить нас к началам жизни, нами утраченной»8. Через общение общество как субъект обретает свое уникальное своеобразие, через него возникает осознанность: «Только в живом общении народа, — отмечает философ, — могут проясниться его любимые идеалы и выразиться в образах и формах»9. В отдельно взятом человеке лишь из общения появляются и развиваются все его высшие индивидуальные, социальные качества: «животворные способности разума живут и крепнут только в дружеском общении мыслящих существ; рассудок в своих низших проявлениях не требует ни сочувствия, ни общения, ни братства… отрешенный от жизненного общения единичный ум бессилен и бесплоден… только от общения жизненного может он получить силу и плодотворное развитие»10. Эти строки, написанные А. С. Хомяковым в удушающей атмосфере николаевского времени, в момент раздумий после бурных обсуждений в кругу близких по духу ему единомышленников, раскрывают перед нами его личную, психологическую мотивацию к углубленному размышлению над истинными, солидарными началами общества, которые не могли зародиться по формальным причинам ни в казарме, ни в каком-либо государственном учреждении, где строго действует железная юридическая логика и довлеет бюрократизм с его дегуманизированной регламентацией.
Вектор развития общества как исторического организма, а также консолидирующие его принципы, по убеждению А. С. Хомякова, задаются в начальной стадии этногенеза, ибо «закон развития общественного лежит в его первоначальных зароды-шах»11. Если в этом начальном пункте развития преобладает мирная солидаризация, как, например, у славян, то оно в последующем своем будет гармонично и цельно. Когда же в моменте зарождения основ лежат конфликты, завоевания (войны Римской империи, империи Карла Великого), в будущем оно непременно будет страдать «случайным скоплением человеческих единиц, связанных или сбитых в одно целое внешними и случайными действователями»12. Именно эти отличия исторически разделяют Россию и Европу, отсюда разные по характеру основы солидарных принципов, скрепляющих общественные организмы. Обнаруженное цивилизационное несовпадение, несоразмерность этих интегративных принципов становится особым фоном в рефлексивном поиске национальной идентичности не только у А. С. Хомякова, но и у других славянофилов13.
Акцентируя внимание на тесной связи личности и социальной среды как единого организма, А. С. Хомяков отмечает, что человек в обществе «получает значение живого органа в великом организме». Такое уподобление общества организму, навеянное, по-видимому, Шеллингом и Вильгельмом фон Гумбольдтом, и было результатом желания противопоставить идею живой жизни механистическому и утилитарному подходу к пониманию человека и общества14. Подчеркивая живую связь всех людей, утрачиваемую постепенно в условиях набирающей обороты индустриальной цивилизации, он отмечал, что «лица, связанные между собою живою органическою цепью, невольно и постоянно действуют друг на друга; но для этого нужно, чтобы между ними была органическая связь. Разрушьте ее, и живое целое обратится в прах, и люди-пылинки стали чужды друг другу, и все их стремление к действию на других людей остается без плода, покуда, по законам неисповедимого Промысла, не осядут снова разрозненные стихии, не окрепнут, не смочатся дождями и росами небесными и не дадут начала новой органической жизни. Такова судьба всякого обще-ства»15. Живительность трансцендентных потоков, связывающих людское общество, отдельные народы и человечество в целом между собой и с высшими, духовными инстанциями было им прочувствовано и осмыслено на уровне личного глубинного опыта, что могло быть навеяно немецким романтизмом. Описывая это интенсивное переживание, он пишет, что «отечество находится не в географии. Эта не та земля, на которой мы живем и родились и которая в ландкартах обводится зеленой или желтой краскою. Отечество также не условная вещь. Это не та земля, к которой я приписан, даже не та, которою я пользуюсь и которая мне давала с детства такие-то или такие-то права и такие-то или такие-то привилегии. Это та страна и тот народ, создавший страну, с которыми срослась вся моя жизнь, все мое духовное существование, вся целость моей человеческой деятельности… Отечество… это тот народ, с которым я связан всеми жилами сердца и от которого оторваться не могу без того, чтобы сердце не изошло кровью и не высохло»16. В этих суждениях мы можем заметить глубоко проживаемую им самим трансцендентную связь, возникающую глубоко в нравственном сознании самого мыслителя. Из обнаруженного им органического единства вырастает приоритет общества, народа над индивидом. В глазах мыслителя это особая экзистенциальная необходимость, это особая связь человека с социальной и духовной средой, вне которой нет развития. Внутренняя солидаризация индивида со своими историческими, социокультурными, трансцендентными корнями признается им источником духовной силы и роста человека и народа. Связь с этими аксиологическими и онтологическими началами естественна и необходима, а ее разрыв может привести к негативным нравственным последствиям. В этом радикальном органицизме человеческое социальное единство обусловлено у А. С. Хомякова тотальным обобществлением, которое захватывает всю человеческую сущность.
Люди — это существа социальные, и вне солидарных и трансцендентных основ не имеющие не только подлинного развития, но и бытия. Отдельно взятый индивид, вне общения, вне социальности, вне веры это абсолютно отрицательная величина. Его идеальные, высшие свойства, «бессильны и бесплодны», ибо разумная сила «личностей основана на силе общественной», ему дано лишь «мертвенное одиночество эгоистического существования», и единственный способ вернуться к бытию означает уничтожение своей отделенности, оторванности от общества. Поэтому ему, во что бы то ни стало, необходимы условия обретения единства, то есть солидарность как способ соучастия в жизни других. «Отделенная личность есть совершенное бессилие и внутренний разлад. <…> Надобно, чтобы жизнь каждого была в полном согласии с жизнью всех. <…> Люди должны быть связаны со всем остальным организмом общества узами свободной и разумной любви»17. «Свободная и разумная любовь», по всей видимости, означает абсолютное признание интересов общества выше интересов личности: «Человеку… должно принести в жертву самолюбие своей личности для того, чтобы проникнуть в тайну жизни общей и соединиться с нею живым органическим соединением»18. Обратим внимание на то, что рассматриваемый мыслителем в этом контексте феномен «истинной любви» описывается как источник социальной связи личности и общества, как важный трансцендентный принцип движения к социальному и сакральному единству, поскольку включает в себя «понятие духовного самопожертвования». Поэтому А. С. Хомяков провозглашает такую любовь (где человек человеку не средство, а цель) краеугольным, высшим нравственным, социальным законом, имеющим вполне рациональные основания. Он убежден, что «если есть какая-нибудь обязанность в стремлении к совершенству, если есть какое-нибудь благородство в человечестве, если есть, наконец, какая-нибудь истина в понятиях о нравственности и добре: очевидно, что любовь есть тот высший закон, которым должны определяться отношения человека к человеку вообще, или лица разумного ко всему роду своему»19. Этот уверенный настрой и его психологическая тревожность вполне соответствует общему христианскому мировоззрению Хомякова. Здесь откровенно звучит живое интеллектуальное и духовное стремление мыслителя осветить путь воссоединения человека с Богом.
Однако все же нельзя не согласиться с мнением известного русского правоведа Н. Н. Алексеева, полагающего, что какая бы то ни было социально-этическая связь обычно обрекает людей на значительное духовное напряжение. «Попробуйте, на самом деле, образовать сколько-нибудь длительное и сложное общение между людьми на почве дружбы или любви, и вы тотчас же почувствуете, сколько нравственной энергии нужно потратить его членам для его поддержания». Пребывание в таком сообществе «для каждого являлась бы нравственным подвигом, к которому способны только очень немногие. И можно сказать, что царство совершенной любви люди, не идущие на подвиг, примут только в состоянии святости, а заставить идти на подвиг всех может только чудо»20.
Действительно, в реальных условиях социальной жизни, на межличностном, межгрупповом и межгосударственном уровнях понятие любви во всей истории человечества не является всеобщим, тотальным принципом взаимодействия людей. Поэтому убеждение А. С. Хомякова, что любовь есть необходимое условие социально-этической связи, выглядит довольно утопично и наивно. Однако мыслитель все-таки находит область социального проявления этого высокого чувства, где оно откровенно манифестирует себя как реальное социальное начало, создающее и интегрирующее общество. Речь идет о семье и ее внутреннем психологическом укладе, «в котором для людей обыкновенных, то есть почти для всего человечества, осуществляется, воспитывается и развивается истинная, человеческая любовь»; именно семья — это тот круг, в котором любовь «переходит из отвлеченного понятия и бессильного стремления в живое и действительное проявление». Здесь она есть высший духовный закон, которым должны определяться отношения родителей к детям и детей к родителям. В этом чувстве нет места эгоизму, пороку, собственному «я», а есть только полное растворение в «естественной любви»21.
В дальнейшем А. С. Хомяков разовьет это понятие в богословском контексте, в рамках идеи соборности, где его понимание любви уже исходит не из ее психического содержания как чувства, которое можно испытывать в обыденном измерении. В соборном контексте любовь — это не только идеальная, высшая ценность, это и способ сакральной, мистической солидаризации людей, причащающихся святыням, делающий возможным подлинно братское, вселенское единение. Любовь — это сущность отношений людей внутри пространства Церкви, где она проявляется в коллективном, религиозном единодушии, согласии с общими ценностями и ненасильственном следовании принятому и разделяемому всеми строю жизни. Смиренная любовь как выражение высшей, божественной человеческой сущности проявляется посредством соборного общения, наполняющегося социальным содержанием через такие понятия, как единодушие, согласие, добровольность, что, на наш взгляд, напрямую соотносится с принципом солидарности22.
Как известно, идея соборности ярко выражена в богословских работах А. С. Хомякова, однако он лишь попытался эксплицировать ее содержание, обозначив особое место в православном христианстве23. Он раскрывает понимание феноменальности собора как выражения идеи «собрания, не только в смысле проявленного, видимого соединения многих в каком-либо месте, но и в более общем смысле всегдашней возможности такого соединения, иными словами: выражает идею единства во множестве »24. В то же время, по его мнению, реальны, но менее эффективны другие формы единства множества. Так, он сравнивает соборную солидарность с механическим единством, которое, например, организует груда песчинок или ряд кирпичей в стене. В первом случае возникающая цельность лишь внешняя, совершенно не справляющаяся с разобщенностью своих компонентов, в то время как соборность, по А. С. Хомякову, задает особое интегративное напряжение, формирующее реальную общность. Во втором случае структурные компоненты единства грубо зависимы от целого, которое тотально и жестко связывает их в определенной и неизменной институциональной позе. Таким образом, перед нами система взаимосвязи, в которой нет свободы, которую мыслитель видит существенно важной из всех составных частей соборности.
Интересным представляется вывод С. С. Хоружего, что идея соборности у Хомякова «дополняет концепцию „жизни“» в качестве верховного принципа его учения, поскольку ее конституция «повторяет основные черты конституции „жизни“. Те же две главные особенности встречают нас… истинный культ единства, и, подобно „жизни“, соборность также рисуется им как некоторый род единства, „единство соборное“»26. Г. В. Флоровский полагает, что соборность в понимании А. С. Хомякова — «не человеческая, а божественная характеристика»27. Она обладает благодатной, метаисторической природой на уровне горизонта бытия Бога и, как принцип, не совпадает с нисходящими социальными проявлениями. Общественным аналогом соборности Хомякову виделась «мирная община» как лучшая форма «общежительности», держащаяся на «святости мирского приговора» и беспрекословной покорности каждого перед «единогласным решением братьев»28.
На наш взгляд, стоит согласиться с мнением И. А. Есаулова, что некорректно было бы однозначно противополагать хомяковское видение общинности и соборности. Хотя А. С. Хомяков не ставил эти понятия на одну плоскость, он все же жестко не разделял их «непереходимой гранью», как это отмечает С. С. Хоружий29. «Убеждение в непереходимости грани между благодатью и миром означает невозможность самого проникновения идеи соборности в жизнь, оставляет ее в сфере чистого духа, необремененного воплощением; в конечном итоге, это убеждение означает невозможность воцерковления жизни»30. Действительно, соборность имеет вполне определенный, внешний институциональный слой, явленный в виде социального контракта, то есть воцерковленности. Последняя солидаризирует, объединяет людей в земную церковную общину, делая христианина одновременно сотрудником высшего, надземного, и земного, гражданского общества. Согласование действий в душе людей с требованиями этих начал есть источник гармоничного социального развития.
Как уже было отмечено выше, важным условием соборности как в трансцендентном, так и в социальном смысле выступает свобода. Поскольку она является ключевой антропологической константой и обретает ценность в процессе отношений, то именно в соборном единстве как в проявлении конкретных связей свобода позволяет человеку осмыслить ее подлинную христианскую глубину. Как пишет А. С. Хомяков, «В отдельном лице является смирение свободы христианина, который, будучи силен убеждением, что для Церкви заблуждение невозможно, приносит свою дань в общее дело, почитает себя всегда ниже своих братьев, покоряет им свое собственное мнение и просит у Бога только сподобить его послужить органом веры всех. Такова та свобода, которой благословение Божие не покидает никогда»31. Эти специфические компоненты соподчинения всех всем внутри церковной общины, принятие Церкви не как внешнего авторитета, а как выражения высшей Истины, связывающей всех в едином сакральном теле, выступают ключевыми кодами трансцендентного и социального единства.
«Единство истинное, внутреннее, — пишет А. С. Хомяков, — плод и проявление свободы, единство, которому основанием служит не научный рационализм и непроизвольная условность учреждения, а нравственный закон взаимной любви и молитвы, единство, в котором, при всем различии в степени иерархических полномочий на совершение таинств, никто не порабощается, но все равно призываются быть участниками и сотрудниками в общем деле, словом — единство по благодати Божией, а не по человеческому установлению, таково единство Церкви»32. В этом смысле начала соборности имеют всеобщий, сверхъестественный источник и не могут быть обусловлены социально-историческими, социокультурными условиями бытия человека. Соборность, таким образом, предполагает императивную благодатность, воцерковленность, любовь, свободу и манифестирует собой метафизическую солидарность как явление всеобщей, трансцендентной связи, улавливаемой вне привычных логических форм организации сознания и выражающей многомерность человеческой природы.
А. С. Хомяков убежден, что соборность как наивысшая форма единения, где господствуют высшие принципы любви и свободы, стоит выше всяких логических, рациональных принципов солидарности западноевропейского общества, чье взаимно-согласное поведение построено на «случайном скоплении человеческих единиц, связанных или сбитых в одно целое внешними и случайными действователями», где отношения в лучшем случае построены на долге и формально-юридической основе. Заимствовав у римлян формализованную внешнюю солидарность, европейская традиция в своем движении к консолидации индивидуальности зашла в тупик. Она выхолостила истинные начала, заменив их рациональными, поверхностными формами организации человеческого бытия. Двумя формами отклонения стало сначала папство, а затем, как реакция на него, — протестантизм. Н. О. Лосский в этой связи отметил, что «Хомяков использует как отправной пункт принцип соборности, или общинности, а именно сочетание единства и свободы, опирающееся на любовь к Богу и Его истине и на взаимную любовь ко всем, кто любит Бога. В католицизме А. С. Хомяков находит единство без свободы, а в протестантстве — свободу без единства. В этих вероисповеданиях нашли свое осуществление только внешнее единство и внешняя свобода»33.
Относительно общины А. С. Хомяков был убежден, что с древнейших времен она была выразительницей ключевых национальных принципов общественной солидарно-сти34. «В истории нашей Руси идея единства общинного лежала всегда, как основной камень всех общественных понятий»35. Общинность выражает суть естественной жизни народа, которой противостоит «искусственная жизнь государственных обществ». Как отмечает Н. О. Лосский, А. С. Хомяков «придавал величайшее значение русской деревенской общине, миру с его сходками, принимающему единодушное решение, и его традиционной справедливостью в соответствии с обычаем, совестью и внутренней истиной»36. Рассматривая заложенные в нее принципы социальной организации, А. С. Хомяков в свое время обратил внимание на два весомых и ценных для всех славянофилов аспекта общинной солидарности. Первый выражается в утилитарно удобной круговой поруке. «При первой неисправности каждого поселянина за него отвечает мир, которого он составляет только частицу; за каждую недоимку отвечает мир; за нерадивое исполнение обязанностей в работе отвечает точно так же вся община»37. Из этого уравнительного принципа солидарности, возникшего благодаря национальной культурно-исторической экономической специфике, вытекает несоразмерность русской общины европейским установлениям. Русский поселянин «не был, не должен и не может быть западным пролетарием», право каждого общинника на свой участок земли «удаляет возможность пролетарства». На этом зиждется всемирно-историческая миссия России и того типа солидаризма, который здесь возник. «Принимая во многом уроки от народов, опередивших нас на поприще просвещения, мы должны и, к счастью, можем разрешать жизненные задачи лучше и вернее своих учителей»38.
Русская общинность как особый, отличный от европейского, принцип единения воспринималась А. С. Хомяковым через идеалистическую призму «истинно христианского общества, члены которого соединяются на основе общности религиозных убеждений в свободную, органичную общину социальной солидарности»39.
Единство людей в рамках этого сообщества достигается не правовым и рациональным способом, как в Европе, а на основе любовного, братского отношения к себе подобным, не на основе закона, а на основе обычая. «Закон, писанный и вооруженный силою принудительною, подводит под условное единство разногласие частных воль. Обычай, неписанный, безоружный, выражает собою самое коренное единство общества. Он так же тесно связан с лицом народа, как жизненные привычки с лицом человека. Чем шире область обычая, тем крепче и здоровее общество»40. Таким образом, единые и общие принципы социальности в церковной общине приобрели свою законченную просветленную форму, воплотив в себе идеальный тип человеческой общности, где безраздельно царствуют смирение, братолюбие, любовь к ближнему, то есть наивысшие формы общественной цельности. Пытаясь уловить сущность характерных черт крестьянской общины, он одновременно переносил их на Церковь, что было вполне оправданно, ведь сельский мир и сельский приход, как правило, совпадали и по территории, и по патриархальным традициям, сохранившимся с допетровских времен. Что интересно, у А. С. Хомякова «крестьянский быт дает исходный пункт для представления о Церкви и как бы „одухотворяет“ своими формами ее земное бытие» 41.
На наш взгляд, обнаруженные у А. С. Хомякова антропологические и богословские поиски равновесия между обществом и человеческой свободой, между разными аспектами солидарности (социальными и трансцендентными) близки известной концепции Августина Блаженного о «двух Градах». Принцип солидарности, рассматриваемый через призму общинности и соборности, становится элементом не только социального, но и трансцендентного бытия.
В то же время мыслитель приходит к обнаружению зависимости типа социальной организации от принципа солидарности. Ключевая интуиция просматривается именно в поляризации этого принципа, манифестирующего себя в пространствах внутренней жизни и наружных социальных форм. Углубляясь в природу солидарности, он обнаруживает явные критерии, делящие ее на два несоразмерных типа.
Первый возникает естественно из того, что органично и свободно растет изнутри духовного пространства и освещено светом «естественной любви», «свободы», «братства». Второй есть результат насильственного, искусственного, рационально-механического регулирования извне. На одном полюсе реализуются позитивные, интеграционные принципы, обеспечивающие бытие «великого организма», объединяющего личность и общество тончайшими узами — «жилами сердца». Благодаря этому типу солидарности возникают живые, органические институции, такие как община, соборная Церковь, народность. На другом полюсе сосредоточены негативные элементы социальной интеграции, воплощенные в «случайном скоплении человеческих единиц, связанных или сбитых в одно целое внешними и случайными действователями». Это некое «числительное скопление бессвязных личностей», формально объединённое, рожденное в принуждении, оно словно оторвано от благодатной пуповины Истины. Солидарные основы, например, католичества, протестантизма или древней дружины интегрируют индивидов не за счет «жизненного общения», а посредством формализма, внешнего авторитета, рациональных формул, принуждающих людей к взаимодействию. В первом типе солидарность между членами общества приводит к «истинному братству», ведь здесь превалируют «живая правда», «законность внутренняя, духовная», здесь в основе внутренней законности — «признанная самим человеком нравственная обязанность». В противоположном объединении «мертвая справедливость» и «законность внешняя, формальная» за счет «условного договора» выливается в применение силы и принуждение. Сплоченность в социальном действии в первом случае достигается посредством единодушного согласия, во втором — чрез формальное большинство или выра жение физической силы.
Список литературы Принцип солидарности в социально-философской концепции А. С. Хомякова
- Аксаков К. С. Об основных началах русской истории//Он же. Полн. собр. соч.: в 3 т.М., 1889. Т. 1: 1861-1880. С. 11-15.
- Киреевский И. О характере просвещения Европы и о его отношении к просвещениюРоссии//Он же. Полн. собр. соч.: в 2 т. М., 1911. Т. 1. С. 174-222.
- Хомяков А. С. Аристотель и всемирная выставка//Он же. Полн. собр. соч.: в 8 т. 3-еизд. М., 1900. Т. 1. С. 177-194.
- Хомяков А. С. Еще раз о сельских условиях//Он же. Полн. собр. соч.: в 8 т. 3-е изд. М.,1900. Т. 3. С. 75.
- Хомяков А. С. Еще несколько слов православного христианина о западных веро-исповеданиях по поводу разных сочинений латинских и протестантских о предметахверы // Он же. Полн. собр. соч.: в 8 т. 3-е изд. М., 1886. Т. 2. С. 169-258.6. Хомяков А. С. К сербам послание из Москвы // Он же. Полн. собр. соч.: в 8 т. 3-е изд.М., 1900. Т. 1. С. 377-408.
- Хомяков А. С. Мнение русских об иностранцах//Он же. Полн. собр. соч.: в 8 т. 3-е изд.М., 1900. Т. 1. С. 31-72.
- Хомяков А. С. О возможностях русской художественной школы//Он же. Полн. собр.соч.: в 8 т. 3-е изд. М., 1900. Т. 1. С. 74-101.
- Хомяков А. С. О сельских условиях//Он же. Полн. собр. соч.: в 8 т. 3-е изд. М., 1900.Т. 3. С. 63-73.
- Хомяков А. С. Письмо к редактору «L’union Chrétienne» о значении слов «кафоличе-ский» и «соборный» по поводу речи иезуита отца Гагарина//Он же. Полн. собр. соч.: в 8 т.3-е изд. М., 1900. Т. 2. С. 319-328.
- Хомяков А. С. Письмо к издателю Т. И. Филиппову//Он же. Полн. собр. соч.: в 8 т. 3-еизд. М., 1900. Т. 3. С. 243-258.
- Хомяков А. С. По поводу Гумбольдта//Он же. Полн. собр. соч.: в 8 т. 3-е изд. М., 1900.Т. 1. С. 141-173.
- Хомяков А. С. По поводу статьи И. В. Киреевского «О характере просвещения Европыи о его отношении к просвещению России»//Он же. Полн. собр. соч.: в 8 т. 3-е изд. М.,1900. Т. 1. С. 197-263.
- Андреев Н. Ю. Государственно-правовой идеал славянофилов. М.: Юрлитинформ,2014. 280 с.
- Андреев Н. Ю. Община в системе государственно-правового идеала славянофи-лов//Вестник ВГУ. Серия: Право. 2014. № 2. С. 52-61.
- Алексеев Н. Н. Введение в изучение права. М.: Изд-во Моск. просветит. комиссии,1918. 184 с.
- Благова Т. И. Соборность как философская категория у А. С. Хомякова//Славяно-фильство и современность. СПб.: Наука, 1994. С. 177-191.
- Васильев А. А. Государственно-правовой идеал славянофилов. М.: Институт русскойцивилизации, 2010. 224 с.
- Есаулов И. А. Соборностьв философии А. С. Хомякова и современнаяРоссия//А. C. Хомяков -мыслитель, поэт, публицист. Сб. ст. по мат. междунар. науч.конф. 14-17 апреля 2004. Москва. Литературный ин-т. им. А. М. Горького. М.: Языки сла-вянских культур, 2007. Т. 2. С. 11-16.
- Жалкиев В. Т. Соотношение солидарности и соборности в концепциях представите-лей органического персонализма: Н. О. Лосского, С. Н. Булгакова, Е. Н. Трубецкого//Об-щество и право. 2011. № 3. С. 311-3180
- Засухина В. Н. Соборность как нравственный идеал в русской религиозной филосо-фии конца ХIХ -начала ХХ века. Дисс. … канд. филос. наук. СПб., 2000. 187 с.
- Коваленко Н. С. Единство во множестве: личность и народ в философии славянофи-лов. Мурманск: НИЦ «Пазори», 2000. 137 с.
- Лосский Н. О. История русской философии М.: Сов. писатель, 1991. 480 с.
- Müller E. Russischer Intellekt in europäischer Krise. I. V. Kireevskij. Köln, 1966. 576 s.
- Павлов А. Политическая философия ранних немецких романтиков // Прогнозис.2009.№ 3-4. URL: htp://www.intelros.ru/pdf/Prognozis/3-4_2010/11.pdf (дата обращения:18.06.2016).
- Попкова Т. В. Солидарность и солидаризм как социальная и научная пробле-ма // Новые исследования Тувы. 2013. № 1. URL: htp://www.tuva.asia/journal/issue_17/5967- popkova.html (дата обращения: 18.06.2016).
- Потапчук В. И. Идея солидарности как смысловая составляющая русской социаль-ной философии//Вестник ТОГУ. 2011. № 2 (21) С. 193-200.
- Тамборра А. Католическая Церковь и русское православие. М.: ББИ св. апостолаАндрея, 2007. 631 с.
- Флоровский Г. В. Пути русского богословия. 3-е изд. Париж, 1983. 549 с.
- Холодный В. С. А. С. Хомяков и современность: зарождение и перспектива соборнойфеноменологии. М.: Академический проект, 2004. 528 с.
- Хондзинский П. Понятие «общины» в русской богословской традиции второй по-ловины XIX -начала XX в.//Вестник ПСТГУ. I: Богословие. Философия. 2012. Вып. 3 (41).С. 38-46.
- Хоружий С. С. Алексей Хомяков: учение о соборности и Церкви//Богословскиетруды. Вып. 37. М.: Изд-во Московской Патриархии, 2002. 111 c.
- Хоружий С. Хомяков и принцип соборности//Вестник РХД. Париж; Нью-Йорк; Москва, 1991. № 162-163. С. 86-92.
- Чешев В. В. Проблема общечеловеческой солидарности в русской культуре // Аль-манах «Восток». 2004. Вып. 3(15). URL: htp://www.situation.ru (дата обращения: 18.06.2016).
- Шапошников Л. Е. Философия соборности: очерк русского самосознания. СПб.: Изд-воСПбГУ, 1996. 200 с.
- Широкова М. А. Политическая доктрина ранних славянофилов. Автореф. … канд.полит. наук. Барнаул, 1999. 12 с.