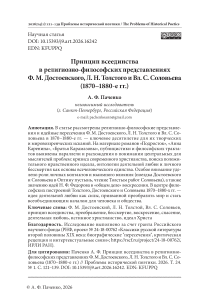Принцип всеединства в религиозно-философских представлениях Ф. М. Достоевского, Л. Н. Толстого и Вл. С. Соловьева (1870−1880-е гг.)
Автор: Паченко А.Ф.
Журнал: Проблемы исторической поэтики @poetica-pro
Статья в выпуске: 1 т.24, 2026 года.
Бесплатный доступ
В статье рассмотрены религиозно-философские представления и идейные пересечения Ф. М. Достоевского, Л. Н. Толстого и Вл. С. Соловьева в 1870−1880-е гг. — ключевое десятилетие для их творческих и мировоззренческих исканий. На материале романов «Подросток», «Анна Каренина», «Братья Карамазовы», публицистики и философских трактатов выявлены параллели и расхождения в понимании центральных для мыслителей проблем: кризиса современного христианства, поиска положительного нравственного идеала, онтологии деятельной любви и личного бессмертия как основы всечеловеческого единства. Особое внимание уделено роли личных контактов и взаимного влияния (поездка Достоевского и Соловьева в Оптину пустынь, чтение Толстым работ Соловьева), а также значению идей Н. Ф. Федорова в «общем деле» воскресения. В центре философских построений Толстого, Достоевского и Соловьева 1870−1880-х гг. — идея деятельной любви как силы, призванной преобразить мир и стать всеобъединяющим началом для человека и общества.
Ф. М. Достоевский, Л. Н. Толстой, Вл. С. Соловьев, принцип всеединства, преображение, бессмертие, воскресение, спасение, деятельная любовь, истинное христианство, идеал Христа
Короткий адрес: https://sciup.org/147253033
IDR: 147253033 | DOI: 10.15393/j9.art.2026.16242
Текст научной статьи Принцип всеединства в религиозно-философских представлениях Ф. М. Достоевского, Л. Н. Толстого и Вл. С. Соловьева (1870−1880-е гг.)
П ериод 1870-1880-х гг. является значимым для понимания и изучения творчества Ф. М. Достоевского, Л. Н. Толстого и философского наследия Вл. С. Соловьева. Именно в это десятилетие происходят их личные и идейные пересечения, оказавшие глубокое влияние на философские и художественные искания каждого из них.
О параллельности духовных поисков Достоевского и Толстого свидетельствует их взаимный интерес к творчеству друг друга. Показательно, что в январе 1875 г. с разницей в несколько дней выходят первые публикации «Подростка» («Отечественные Записки») и «Анны Карениной» («Русский Вестник»), где центральной становится проблема духовного распада семьи и общества.
Для героя Достоевского, Аркадия Долгорукого, идеалом становится не нравственное совершенство, а обретение материального богатства для доказательства собственной силы. Это стремление приводит Аркадия к ложной цели — изоляции от семьи:
«Но чуть увижу, что этот шаг, хотя бы и условный и малый, все-таки отдалит меня от главного , то тотчас же с ними порву, брошу всё и уйду в свою скорлупу» [Достоевский; т. 13: 15].
Такое существование, по мысли Достоевского, неполноценно и губительно, так как в мире, где интересы отдельной личности стоят выше общего блага, невозможны духовное единство, гармония и полноценное бытие.
Пытаясь разобраться в нравственном облике отца, Аркадий Долгорукий оказывается втянут в конфликт не только семейный, но и внутренний. Этот внутренний разлад основан на поиске самоопределения, положительного нравственного идеала и требовании онтологической свободы выбора для выражения личности. Хотя герой намеревается отдалиться от семьи и знакомых, не доверяя отцу, он остается неразрывно связан с ними. Как пишут И. А. Киселева и Е. С. Сахарчук, роман представляет собой «художественно и концептуально успешную попытку найти альтернативу греховной разобщенности» [Киселева, Сахарчук: 163]. Достоевский был убежден, что человек должен не отвергнуть «закон личности», а преодолеть его, «дозреть»
внутри своего Я до высших ступеней развития и «отдать это всё самовольно для всех » [Достоевский; т. 20: 192]. Логично, что путь к этой зрелости начинается в семье, где закладывается первый опыт постижения Другого. Таким образом, в «Подростке» показано переходное, становящееся состояние героя.
Проблема отсутствия высшей, смыслообразующей идеи, подчиняющей себе жизнь, глубоко волновала Достоевского. В октябрьском выпуске «Дневника Писателя» за 1876 г. он опубликовал статьи «Два самоубийства» и «Приговор». Хотя обстоятельства смерти описанных им людей разные, всех их объединяет именно утрата смысла, отсутствие положительного идеала, ради которого стоило бы жить. В «Приговоре» писатель касается «основной и самой высшей идеи человеческого бытия — необходимости и неизбежности убеждения в бессмертии души человеческой» [Достоевский; т. 24: 46].
Позже, в декабрьском выпуске, в статье «Голословные утверждения», Достоевский развивает эту мысль: «…без веры в свою душу и в ее бессмертие бытие человека неестественно, немыслимо и невыносимо» [Достоевский; т. 24: 46]. Он подчеркивает необходимость « совместной веры в бессмертие души человеческой » [Достоевский; т. 24: 49], поскольку индивидуального преображения недостаточно. Для преодоления мирового несовершенства нужны совместные усилия, ведущие к соединению людей через жертвенный отказ от собственного Я в пользу целого.
При этом идея любви к человечеству, оторванная от веры в Бога и бессмертие души, несостоятельна. Сознание своего бессилия облегчить страдания других, по мнению писателя, может привести лишь к ненависти и отчаянию [Достоевский; т. 24: 49]. Бессилие здесь проистекает из неизбежности и неискоренимости страданий в условиях конечной, ограниченной земной жизни, которая в таком случае предстает бессмысленной и несправедливой. Поэтому любые нравственные идеи, усвоенные вне веры в будущую жизнь, представляются Достоевскому не только нежелательными, но и опасными для общества. Этот круг проблем, волновавший писателя на протяжении 1870–1880-х гг., нашел свое глубокое и полное воплощение в его итоговом романе — «Братья Карамазовы» (1880).
О последнем романе Достоевского, как и о его творчестве в целом, Толстой отзывался неоднозначно. Тем не менее исследователи отмечают, что мыслитель внимательно читал поучения старца Зосимы. Так, на странице 359 своего экземпляра «Братьев Карамазовых» в главе «Из бесед и поучений старца Зосимы» он подчеркнул ответ на вопрос о том, что есть ад: «Страдание о том, что нельзя уже более любить» [Плякин: 109], [Достоевский; т. 14: 292].
В этом поучении адский огонь осмысляется через противопоставление бесконечного бытия, свободного от времени и пространства, земному миру, ограниченному этими категориями. Достоевский подводит к мысли, что начало божественного единства существует в человеке извечно и его задача — реализовать это единство в абсолютном, онтологическом смысле за время земной жизни. Если же человек не следует закону деятельной любви, он не способен постичь идеал Бога и воссоединиться с Ним, что обрекает его на страдание. Когда время и пространство земного существования закончатся, для него начнется ад, поскольку избежать или смягчить духовные муки будет уже невозможно.
Эта идея была близка Толстому, и ее трагическое преломление мы видим в судьбах героев романа «Анна Каренина». Алексей Александрович Каренин привык опираться на бюрократическое, формальное представление о жизни, в котором духовные вопросы не имели значения:
«Переноситься мыслью и чувством в другое существо было душевное действие, чуждое Алексею Александровичу. Он считал это душевное действие вредным и опасным фантазерством» [Толстой; т. 18: 152].
После признания Анны в измене его усилия были направлены на сохранение репутации и месть. Однако, увидев жену при смерти, а Вронского — в отчаянии, Каренин переживает духовный перелом. Внутренняя жизнь, которую он прежде считал «душевным расстройством» [Толстой; т. 18: 434], открывает ему возможность забыть о себе и ощутить «блаженное состояние души, давшее ему вдруг новое, никогда неиспытанное им счастье» [Толстой; т. 18: 434]. Его решение не оставлять Анну стало следствием пробудившейся способности к христианскому прощению. Но перерождение остается незавершенным:
«Он чувствовал, что, кроме благой духовной силы , руководившей его душой , была другая, грубая, столь же или еще более властная сила , которая руководила его жизнью , и что эта сила не даст ему того смиренного спокойствия, которого он желал» (курсив наш. — А. П. ) [Толстой; т. 18: 441].
Подчинившись формальному общественному порядку, чуждому его душе, герой испытывает страдание и лишается духовной целостности.
Анна после рождения ребенка оказывается в не менее тяжком положении и на протяжении всего романа так и не проходит путь духовного преображения. Ненавидя мужа за его прощение и мучаясь из-за разлуки с сыном, она оказывается в отчаянии. В беседе с братом героиня признается:
«Я чувствую, что лечу головой вниз в какую-то пропасть, но я не должна спасаться. И не могу » (курсив наш. — А. П .) [Толстой; т. 18: 450].
Гибель кажется ей закономерным наказанием за преступление против супружеской верности и семейной целостности, а спасение — невозможным, поскольку ни «благая духовная сила», ни «грубая, властная» сила общественного порядка не становятся для нее опорой. Таким образом, Толстой показывает необходимость объединяющего духовного начала, с которым должен быть согласован земной, социальный порядок. В противном случае личность, стремящаяся к вере, но оказавшаяся под давлением разобщающих сил, может не выстоять и закончить свою жизнь трагически.
В 1875 г., в незаконченном и неопубликованном философском наброске «О душе и жизни ее вне известной и понятной нам жизни», Толстой продолжил размышлять о сущности души как живого, объединяющего начала. Поскольку высший смысл жизни познается не рационально, а непосредственно, в вере, полноценное развитие души возможно только в контексте христианства, которое руководствуется «сознанием объединения» (интеллектом, волей, любовью) [Толстой; т. 17: 346]. Для Толстого важна практическая, разумная вера, которой человек следует свободно, осознавая всеобщее благо. Именно в деятельной любви, по мысли писателя, заключается преодоление разъединяющего эгоизма и залог преображения общества и мира.
Художественным продолжением этой мысли можно считать рассказ Толстого «Чем люди живы» (1881), сюжет которого воплощает в повседневности напутствие старца Зосимы — «любить <…> ближних деятельно и неустанно» [Достоевский; т. 14: 52]. В романе «Братья Карамазовы», в главе «Маловерная дама», старец наставляет помещицу Хохлакову:
«По мере того, как будете преуспевать в любви, будете убеждаться и в бытии Бога, и в бессмертии души вашей. Если же дойдете до полного самоотвержения в любви к ближнему, тогда уж несомненно уверуете, и никакое сомнение даже и не возможет зайти в вашу душу. Это испытано, это точно» [Достоевский; т. 14: 52].
Прожив шесть лет среди людей и увидев, как они переносят тяготы земного существования, ангел Михаил в финале толстовского рассказа подтверждает эту мысль, но высказывает ее как свершившуюся истину:
«Понял я теперь, что кажется только людям, что они заботой о себе живы, а что живы они одною любовью. Кто в любви, тот в Боге и Бог в нем, потому что Бог есть любовь» [Толстой; т. 25: 25].
Однако, как отмечает С. Р. Шаваринская, воплощая в литературе тип героя, способного к деятельной любви и живой вере, Достоевский и Толстой вкладывают в эти образы разное содержание. Так, образ Вареньки («Анна Каренина») создается преимущественно через ее дела и окружение, в то время как образ Софьи Андреевны («Подросток») строится на христианском смирении, образе жизни и словах [Шаваринская: 90]. Варенька погружена в «поток обезличенной любви» [Шаваринская: 90], что делает ее счастливой, тогда как мать Аркадия Долгорукого — в «любовь личностную» [Шаваринская: 90], что приводит ее к страданиям.
Представляется, что тема «обезличенного», всенаправленного потока деятельной любви раскрыта в романе «Анна Каренина» значительно шире. Левин едва помнил мать, но «понятие о ней» было для него «священным воспоминанием» [Толстой; т. 18: 101], которое должно было возродиться в облике будущей жены. Преемственность поколений связана у героя скорее со значением образа матери, чем с ее индивидуальными чертами. Фигуры отца и матери — основа семейства, единства, которое продолжает род и обеспечивает связь поколений. Именно к такому пониманию семьи как единства и стремится Левин. Любовь к женщине он «не мог себе представить без брака», а сам брак считал «главным делом жизни» [Толстой; т. 18: 101]. Перед свадьбой с Кити Левина мучает собственная «неневинность» [Толстой; т. 18: 429]. Он переживает о том, что невеста «откажется» от него [Толстой; т. 18: 428] и слияние душ в единое целое не состоится.
Тема «обезличенной» деятельной любви поддерживается в романе и через примеры семей с нарушенным миропорядком. Дарья Александровна, пытаясь убедить Каренина не разводиться с неверной женой, восклицает:
«Нет, это будет ужасно. Она будет ничьей женой, она погибнет !» (курсив наш. — А. П .) [Толстой; т. 18: 415].
Существование личности вне ее социальной роли представляется ей немыслимым. В той же беседе Долли, рассказывая о своей семейной драме, говорит, что простила мужа, который «возвращается в семью и чувствует свою неправоту, делается чище, лучше…» [Толстой; т. 18: 415], и советует Каренину поступить так же. Хлопоты о детях стали для героини спасением в момент кризиса и духовного «отказа» со стороны мужа:
«Но хлопоты и беспокойства эти были для Дарьи Александровны единственно возможным счастьем. Если бы не было этого, она бы оставалась одна со своими мыслями о муже, который не любил ее» [Толстой; т. 18: 276].
Внимание Толстого направлено на сохранение целостности семьи как таковой, поскольку верующий человек рано или поздно познает чудо христианского прощения и любовь, способную восстановить нарушенное единство и преодолеть разобщающие силы зла. Так, Алексей Каренин с ужасом понимает, к какому шагу его подталкивает общественный земной порядок:
«Согласиться на развод, дать ей свободу значило в его понятии отнять у себя последнюю привязку к жизни детей, которых он любил, а у нее — последнюю опору на пути добра и ввергнуть ее в погибель» [Толстой; т. 18: 454].
Положение обманутого мужа пугает его куда меньше:
«Как ни было это дурно, это было всё-таки лучше, чем разрыв , при котором она становилась в безвыходное, позорное положение, а он сам лишался всего, что любил» (курсив наш. — А. П. ) [Толстой; т. 18: 447].
В начале 1870-х к творческому диалогу писателей присоединился Вл. Соловьев. Знакомство Достоевского с юным философом произошло в 1873 г. К этому моменту Соловьев, переживший мировоззренческий кризис, уже был сознательно верующим христианином, что сближало его убеждения с позицией зрелого писателя. Некоторые исследователи — например, В. А. Викторович — полагают даже, что в Соловьеве Достоевский «имел перед собой своеобразное зеркало» [Викторович: 10].
После смерти младшего сына Достоевского, Алексея, летом 1878 г. писатель и философ совершили совместное паломничество в Оптину пустынь. По воспоминаниям Соловьева, во время поездки Достоевский обсуждал с ним идею будущего романа как идею Вселенской Церкви. Впоследствии, в «Трех речах в память Достоевского» (1881-1883), философ писал:
«Церковь, как положительный общественный идеал, должна была явиться центральною идеей нового романа или нового ряда романов, из которых написан только первый — "Братья Карамазовы"» [Соловьев, 1912: 197].
Как отмечает В. Н. Захаров, эта поездка была для писателя возможностью отметить сороковины по сыну, окончательно определить идею будущего романа и познакомиться с феноменом старчества [Захаров, 2016: 68]. Более того, по убедительному доказательству исследователя, семейная трагедия послужила мощным импульсом к развитию танаталогического сюжета в «Братьях Карамазовых» и «воскрешению» Алексея Федоровича Достоевского в образе Алексея Федоровича Карамазова [Захаров, 2022: 39]. Закономерно, что именно устами Алеши Карамазова
Достоевский выражает надежду на преодоление смерти и всеобщее воскресение:
«Непременно восстанем, непременно увидим [друг друга] и весело, радостно расскажем друг другу всё, что было» [Достоевский; т. 15: 197].
Знакомство Толстого с работами Соловьева произошло годом позже, в 1874 г. Писатель прочитал его магистерскую диссертацию «Кризис западной философии. Против позитивистов» и остался ею весьма доволен [Толстой; т. 62: 128]. Личная встреча состоялась в 1875 г., когда Соловьев перед заграничной поездкой посетил Ясную Поляну. В письме от 3 мая 1875 г. он сам просил Толстого о встрече:
«Отправляясь на долгое время за границу, я не желал бы уехать, не увидав и не познакомившись с Вами»1.
После этого Толстой писал Н. Н. Страхову, что «знакомство с философом Соловьевым очень много дало <…> нового» [Толстой; т. 62: 197]. Впоследствии их отношения развивались противоречиво, но взаимный интерес не угасал.
В. Б. Ремизов отмечает, что Толстой активно обращался к работам философа и оставил множество пометок на страницах его сочинений, в особенности поздних («История и будущность теократии» — 23 пометки, «Нравственная организация человечества» — 24) [Ремизов: 227]. И. И. Евлампиев и И. Ю. Матвеева указывают на интерес Толстого к малоизвестной тогда статье Соловьева «Вера, разум и опыт» [Евлампиев, Матвеева: 226], опубликованной в еженедельнике «Гражданин» за 1877 г. В ней философ последовательно доказывает необходимость цельного познания мира, опирающегося на эмпирический, теологический и рациональный способы. Задачу такого познания он возлагает на новое христианство, поскольку авторитет старого, современного ему, уже слаб и не отражает действительность. Чуть раньше Толстой создал, но не завершил философский набросок «О значении христианской религии» (1875-1876). В нем он пишет, что старшее поколение, воспитывая детей, стремилось передать единственно важное знание — «объяс- неніе смысла о значеніи жизни и смерти» [Толстой; т. 17: 354].
В январе — апреле 1878 г. Соловьев прочитал цикл из 12 лекций «О Богочеловечестве». На некоторых из них побывал Дос-тоевский2. В библиотеке писателя также имелись труды философа ( «Кризис западной философии. Против позитивистов» (1874), «Критика отвлеченных начал» (1877-1880) ) [Библиотека Ф. М. Достоевского: 143–144]. В «Чтениях о Богочеловечестве» Соловьев развивает идею Бога как идеального целого, безусловного блага, к которому человек должен стремиться свободно, а не подменять его ложными социальными идеалами, такими как социализм. Он пишет:
«Оно [положительное содержание божественного начала] не может быть только совокупностью природных явлений, так как каждое из этих явлений, а следовательно, и все они вместе представляют лишь постоянный переход, процесс, имеющий только видимость бытия, а не подлинное, существенное и пребывающее бытие. Если, таким образом, наш природный мир по своему чисто относительному характеру не может быть подлинным содержанием божественного начала, то такое содержание, т. е. положительное всё (всецелость, или полнота бытия), может находиться лишь в сверхприродной области, которая в противоположность миру вещественных явлений определяется как мир идеальных сущностей, царство идей» [Соловьев, 1911: 50].
Тезисы Соловьева о сущности абсолютного божественного целого и его значении во многом перекликаются с идеями Достоевского 1860-х гг., когда писателя глубоко интересовала тема социализма как ложного объединяющего начала и христианства как истинной, идеальной формы человеческого существования, ведущей к бессмертию [Достоевский; т. 20: 194]. Известно, что Достоевский планировал написать статью или цикл статей, посвященных этой проблеме и месту христианства в искусстве, чтобы определить степень близости христианского и социалистического идеалов. Замысел остался неосуществленным. По предположениям исследователей, причиной этому могла быть «теоретичность» задумки [Заваркина: 89] или отсутствие подходящей п лощадки для публикации [Захаров, 1996: 143].
Однако отголоски этих размышлений нашли отражение в его последующем творчестве [Захаров, 1996: 143], в частности, в романе «Идиот» (1869) [Галкин: 322], [Кибальник, 2017: 42].
В письме Н. П. Петерсону от 24 марта 1878 г. Достоевский проявил интерес к философской системе Н. Ф. Федорова. Тема воскресения как элемента бессмертия и всеединства волновала писателя, поэтому его внимание к мыслителю, разрабатывавшему проект всеобщего спасения, закономерно. В том же письме Достоевский засвидетельствовал совпадение своих взглядов с убеждениями Вл. Соловьева в вопросе о личном бессмертии:
«Предупреждаю, что мы здесь, то есть я и Соловьев, по крайней мере верим в воскресение реальное, буквальное, личное и в то, что оно сбудется на земле» [Достоевский; т. 30, кн. 1: 14–15].
А. Г. Гачева, подробно проанализировавшая тему «Достоевский и Н. Ф. Федоров», доказывает влияние системы Федорова на иммортологические представления Достоевского и на внутренний сюжет романа «Братья Карамазовы». Именно после знакомства с идеями Федорова писатель глубже осознает необходимость творческого преображения личности и мира, проникаясь идеей всеобщего спасения, зависящего от деятельных усилий человека [Гачева, 2008: 61]. Близость религиозно-философских исканий Достоевского и Федорова Гачева отмечает уже в романе «Подросток», где центральной стала тема восстановления родства между отцом и сыном в евангельском смысле [Гачева, 2022: 329]. Эта тема созвучна мысли Федорова о необходимости «возвратить сердца сынов к отцам» [Федоров: 246] и отцов к детям. Такое преображение, по мысли философа, должно искупить греховную, смертную природу человека и стать основой всечеловеческого родства, которое Достоевский и Соловьев видели в контексте идеи Вселенской Церкви.
Эта идея, высказанная Соловьевым в «Чтениях о Богоче-ловечестве», находит отражение в «Братьях Карамазовых» в споре Ивана Карамазова и Зосимы о церковном суде. Как отмечает С. А. Кибальник, подробно анализировавший эту главу, у Ивана она обретает характер теократической утопии (близкий Соловьеву), а у Зосимы — земного, гуманистического и достижимого идеала (близкого Достоевскому) [Кибаль-ник, 2021: 229-230].
Подобное понимание воскресения было чуждо Толстому и казалось ему надуманным. 14 января 1889 г. он записал в дневнике о взглядах Федорова:
«…встретил Николая Федоровича и с ним беседовал. У него вроде как у Урусова в жизни и книгах не то, что есть, а то, что ему хочется. И интонации уверенности удивительные. Всегда эти интонации в обратном отношении с истиною. Ему пластырь надо» [Гусев: 77].
В философском трактате «В чем моя вера?» (1884) Толстой писал:
«Христос, отрицая личное, плотское воскресение, признает восстановление жизни в том, что человек жизнь свою переносит в Бога. Христос учит спасению от жизни личной и полагает это спасение в возвеличении сына человеческого и жизни в Боге. Связывая это свое учение с учением евреев о пришествии мессии, он говорит евреям о восстановлении сына человеческого из мертвых, разумея под этим не плотское и личное восстановление мертвых, а пробуждение жизни в Боге. О плотском же личном воскресении он никогда не говорил» [Толстой; т. 23: 392].
Идея спасения, восстановления падшего человека стала ключевой для мыслителей XIX в. Анализируя ее воплощение у Достоевского, Толстого и Чехова, С. А. Кибальник отмечает, что у Достоевского непосредственное «восстановление погибшего человека» почти не изображается, а лишь намечается [Кибаль-ник, 2024: 161], хотя вариации этой темы разнообразны. Среди них — тема «спасения падшей женщины», связывающая романы «Идиот» Достоевского и «Воскресение» (1899) Толстого [Кибальник, 2024: 162-165]. Проводя сюжетные параллели, исследователь обращает внимание на позитивный финал толстовского романа. В отличие от князя Мышкина, чья попытка спасти Настасью Филипповну оканчивается крахом, Нехлюдов стремится искупить собственную вину перед Катюшей Масловой. Однако позитивный исход достигается не «сострадательной» любовью героя, а жертвой самой Катюши, освободившей Нехлюдова от обещания жениться, то есть проявлением «обычной человеческой любви» [Кибальник, 2024: 165].
Существенным расхождением было и понимание фигуры Христа. Для Достоевского, как и для Соловьева, разделявшего его взгляды в 1870-1880-е гг., принципиально важным было присутствие деятельного идеала Христа «как идеала человека во плоти» [Достоевский; т. 20: 172], идеала, к которому люди могут приближаться. Еще в 1854 г. в письме к Н. Д. Фонвизиной Достоевский признавался:
«Мало того, если б кто мне доказал, что Христос вне истины, и действительно было бы, что истина вне Христа, то мне лучше хотелось бы оставаться со Христом, нежели с истиной» [Достоевский; т. 28, кн. 1: 176].
И Достоевский, и Соловьев были убеждены, что мир без Христа останется несправедливым, бессмысленным и полным страданий.
В отличие от них, Толстой, казалось бы, придавал исключительное значение самому учению Христа, идее непротивления злу, а не Его личности. В трактате «В чем моя вера?» он писал:
«Таковы и эти простые слова Бога: не противься злу. Они очень просты, но в них выражен закон Бога и человека, единственный и вечный. Закон этот до такой степени вечен, что если и есть в исторической жизни движение вперед к устранению зла, то только благодаря тем людям, которые так поняли учение Христа и которые переносили зло, а не сопротивлялись ему насилием. Движение к добру человечества совершается не мучителями, а мучениками » (курсив наш. — А. П. ) [Толстой; т. 23: 334].
Тем не менее Христос как воплощение жертвенности и добра, безусловно, сохранял для Толстого глубокую значимость.
Таким образом, все три мыслителя остро переживали кризис положительного нравственного и общественного идеала. В центре философских построений Ф. М. Достоевского, Л. Н. Толстого и Вл. С. Соловьева 1870-1880-х гг. — идея деятельной любви как силы, призванной преобразить мир и стать всеобъ-единяющим началом для человека и общества.