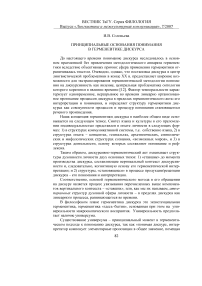Принципиальные основания понимания в герменевтике дискурса
Автор: Соловьева Ирина Валерьевна
Журнал: Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология @philology-tversu
Рубрика: Проблемы теории
Статья в выпуске: 7, 2007 года.
Бесплатный доступ
Короткий адрес: https://sciup.org/146120460
IDR: 146120460
Текст статьи Принципиальные основания понимания в герменевтике дискурса
ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ ОСНОВАНИЯ ПОНИМАНИЯ В ГЕРМЕНЕВТИКЕ ДИСКУРСА
До настоящего времени понимание дискурса исследовалось в основном прагматикой без привлечения методологического аппарата герменевтики вследствие объективных причин: сфера применения герменевтики ограничивалась текстом. Очевидно, однако, что постановка дискурса в центр лингвистической проблематики в конце ХХ в. предоставляет широкие возможности для экстраполирования герменевтической методологии понимания на дискурсивность как явление, центральная проблематика онтологии которого коренится в явлении времени [12]. Фактор темпоральности характеризует одновременное, неразрывное во времени линеарно организованное протекание процессов дискурса в пределах герменевтического акта: его интерпретации и понимания, и определяет структуру герменевтики дискурса как совокупности процессов и процедур понимания становящегося речевого произведения.
Наша концепция герменевтики дискурса в наиболее общем виде основывается на следующем тезисе. Синтез языка и культуры в его преломлении индивидуальностью представлен в опыте личности в следующих формах: 1) в структурах коммуникативной системы, т.е. собственно языка, 2) в структурах опыта – концептах, гештальтах, архетипических, символических и мифологических структурах сознания, «возможных миров», и 3) в структурах деятельности, основу которых составляют понимание и рефлексия.
Таким образом, дискурсивно-герменевтический акт охватывает структуры духовности личности двух основных типов: 1) «ставшие» до момента производства дискурса, составляющие вертикальный контекст дискурсив-ности и, следовательно, когнитивную основу его герменевтической интерпретации; и 2) структуры, «становящиеся» в процессе продукции/рецепции дискурса – его понимания и интерпретации.
Соответственно, основой герменевтического метода в его обращении на дискурс является процесс увязывания перечисленных выше компонентов вертикального контекста - «ставших», или, как мы их называем, атем-поральных структур духовной сферы личности – в пределах дискурса как линеарного процесса, развивающегося во времени.
В философском плане герменевтика дискурса это экзистенциальная герменевтика, герменевтика «здесь–бытия», основанная при этом на универсальности макроскопического восприятия. Универсальность предполагает наличие универсума.
Существование универсума – принципиальный момент в герменевтическом подходе к пониманию дискурса, так как «понимая дискурс, интерпретатор компонует элементарные пропозиции в общее значение, помещая новую информацию, содержащуюся в очередном интерпретируемом предложении, в рамки уже полученной промежуточной, или предварительной интерпретации, т.е.: устанавливает различные связи внутри текста – анафорические, семантические (типа синонимических и антонимических), референциальные (отнесение имен и описаний к объектам реального или ментального мира) отношения, функциональную перспективу (тему высказывания и то, что о ней говорится) и т.п.; «погружает» новую информацию в тему дискурса. В результате устраняется (если это необходимо) референтная неоднозначность, определяется коммуникативная цель каждого предложения и шаг за шагом выясняется драматургия всего дискурса. По ходу такой интерпретации воссоздается – «реконструируется» – мысленный мир, в котором, по презумпции интерпретатора, автор конструировал дискурс и в котором описываются реальное и желаемое (пусть и не всегда достижимое), нереальное и т.п. положение дел. В этом мире мы находим характеристики действующих лиц, объектов, времени, обстоятельств событий (в частности, поступков действующих лиц) и т.п. Этот мысленный мир включает также домысливаемые интерпретатором (с его неповторимым жизненным опытом) детали и оценки [3: 117].
Важность атемпоральных феноменов в процессе понимания подтверждается также тем, что признание их в качестве априорных границ пространства понимания, в каких бы терминах мы ни обсуждали эту проблематику, может послужить объективным кумулятивным основанием значительной части лингвистической методологии. К примеру, в терминах тем-поральности – атемпоральности можно обсуждать группы философско-лингвистических категорий и понятий, приобретших разную интерпретацию в разных сферах лингвистики и философии: опыт, знание, компетенцию, смысл и значение, собственно текст и дискурс, восприятие и понимание, синхронность и прецедентность, проблемы онтологического и эпистемологического статуса явлений, внешней и внутренней формы, и т.д. Дихотомия темпоральность – атемпоральность дает нам возможность привлекать в пределах нашего рассуждения доводы, приводимые когнитивной лингвистикой, в пользу герменевтики.
Границы универсума, составляющего основу целостного восприятия в процессе понимания дискурса (феномены сознания: миф, гештальт, пресуппозиция, образ, символ, схема) представляют собой формальные и содержательные реальности, являющиеся неотъемлемыми атрибутами духовной сферы личности, языка и культуры. «Безусловно, можно бесконечно спорить по поводу значения, которое можно придавать этим художественным и религиозным реальностям. Но одна вещь кажется нам очевидной: для произведений искусства, так же как и для «религиозных данностей» характерен свой способ бытия: они существуют в своем собственном плане внутренних соотношений, в своем особом универсуме. Тот факт, что этот универсум – не физический универсум непосредственного опыта отнюдь не делает его ирреальным» [13: 25–26].
Атемпоральность как характеристика может также служить обеспечению иллюстративности рассуждений о диалектике развития дискурса и его понимания. Дихотомия «становящееся во времени» – темпоральность – дискурс и понимание, и «ставшее до начала продукции/рецепции дискурса» – личность реципиента как совокупность идеальных структур, «ставших» до производства дискурса и обеспечивающих основания его понимания – задает пространственно-временную систему координат, с помощью которой может быть описано дискурсивно-герменевтическое пространство.
Понимание определяют по-разному в зависимости от задач, которые обслуживает само определение понимания. Это и механизм «достраивания» фрагментов до целостного вида и «присмысливыания» отсутствующих фактов, схватывания целостности. Понимание определяют как внутренне реализованную «удачную» интерпретацию в результате взаимодействия различных видов интерпретации, это также оценка результата интерпретации или ее хода, воплощенная по-разному в зависимости от личностных характеристик интерпретатора [3: 123]. С функциональной точки зрения понимание есть функция мышления, которая, в силу генетической принадлежности, имеет субстанциальную природу [6: 72]. Субстанциальность есть способность человека понимать, т.е. движущая, формирующая и порождающая сила бытия, ступень развертывания гегелевской «абсолютной идеи», на которой реализуется единство особенных объектов присущих пониманию как «освоению разумом того, что присутствует или дается неявно» [1: 3]. Еще одно свойство понимания – процессуальность – представлено множеством действий, процедур и техник, «обеспечивающих переход от непонимания чего-либо к пониманию этого или пониманию другого» [Ibid.]. Развитие обоих начал понимания обеспечивает принципиальную возможность освоения языковой личностью речевых произведений любой природы. Субстанциальность и процессуальность объединяет общее основание – событийность.
Здесь–и–сейчас событие представляет собой этап в развертывании понимания дискурса и, в свою очередь, обладает собственной диалектикой. По-прежнему верно утверждение К. Бюлера о том, что «пока что точных наблюдений недостаточно для выяснения существенных подробностей, касающихся темпорального компонента, который содержится здесь и вытекает из непосредственно переживаемого сейчас. То, что язык обычно использует непосредственно переживаемое “сейчас” как исходный пункт при определении времени, достаточно просто увидеть на примере системы индоевропейского спряжения. Изолированное слово сейчас (как и здесь ) при произнесении указывает на свою позиционную значимость (Stellenwert). Так же как и здесь , его не следует понимать как не имеющую протяженности (математическую) точку, как границу в собственном смысле слова. Оно может в зависимости от подразумеваемого уже не сейчас принимать меньшую или даже сколь угодно большую протяженность. Так же как христианин говорит здесь и включает сюда все посюстороннее (поверхность
Земли или еще больше), тот, кто мыслит в геологических измерениях времени, может включить в сейчас весь период после последнего ледникового периода. И подобно воображаемому здесь воображаемое сейчас может быть перемещено в любое место…» [2: 120]. Речь здесь идет прежде всего о «я» как естественной исходной точке координат мировоззрения и в буквальном смысле о том, как она приобретает языковую форму [Op. cit.: 121]. Здесь К. Бюлер обсуждает чрезвычайно интересные методологические основания, релевантные, на наш взгляд, для дальнейшего формирования лингвистического аспекта теории и герменевтики дискурса. В частности, он предполагает существование реализуемой в речи системы средств «перспективного регулирования мысли». Все поступающие реципиенту чувственно воспринимаемые данные, которые укладываются в некоторую последовательность – в координатную систему, исходным пунктом (Origo как указательное поле человеческого языка, «здесь-сейчас-я» = система ориентации субъекта – см. [Op.cit.: 94]) которой является то, что обозначается словами «здесь», «сейчас», «я». Заметим, что в терминах современной лингвистики это утверждение описывает концептосферу-основу речевого события, которая наиболее естественным образом может быть экстраполирована на дискурс. Также то, что обозначается словами «здесь», «сейчас», «я», можно отнести к разряду базовых пресуппозиций в качестве основных понятий герменевтики дискурса, поскольку это ориентиры, с помощью которых могут быть определены границы действия данной теории. Эта точка зрения представляет собой, безусловно, расширенное понимание пресуппозиций как знаний о мире, образующих своего рода фон для речи: о них можно говорить как о микро- и макропресуппозициях, т.е. том, что известно из ситуации «здесь/сейчас» и о том, что составляет знание о мире.
Категория «я» также нуждается в обсуждении, поскольку «Я» (self), «эго», связанное с разными проекциями личности и идентичностью человека (identity), представляет собой сложное, многоуровневое явление и предстает в разных формах. Феноменологическое «Я» описывает внутренний поток сознания человека в социальной ситуации. Интерактивное «Я» относится к той части образа себя, которая представлена во взаимодействии с другим человеком в конкретной последовательности социальных актов. «Я» может рассматриваться также как лингвистический, эмоциональный и символический процесс. Языковое «Я» наполняет пустые дейктиче-ские элементы (личные местоимения, грамматические показатели лица, места, времени) значениями, носящими биографический, эмоциональный, истинно личный характер. Материальное «Я», или образ себя как материального объекта, включает все то, что данный субъект называет «своим» в какой-либо момент времени» [14: 32. Цит. по: 10: 54–55]. Из всех перечисленных содержаний «Я» для герменевтики дискурса наиболее методологически релевантны два: феноменологическое и интеракциональное. Феноменологическое «я» «отвечает» за субстанциальность понимания, в то время как интеракциональное – за его процессуальность. Следовательно, по- нимание дискурса может быть представлено в качестве движения между процессуальностью и субстанциальностью понимания. В терминах структур деятельности процессуальность представлена течением рефлексии, а субстанциальность – ее фиксацией.
Дискурс, как и любое другое речевое произведение, может содержать смыслы, данные явно и неявно. Поскольку в речи не все дано явно, и, следовательно, дискурсивность не сводится к буквальности, мы имеем возможность обсуждать вопросы распредмечивающего понимания в отношении дискурса.
В частности, наиболее ярким примером дискурса, который может быть освоен прежде всего при помощи распредмечивающего понимания, является дискурс фантазии или воспоминаний. Обсуждая вопросы дейксиса к воображаемому, К. Бюлер отмечает особенности перцепции, в ситуации воспоминаний и фантазии во многом схожие с восприятием и в качестве «картин и картинок» играющие заместительную роль по отношению к первичной данности, характеризующей перцептивные ситуации, в пределах которых взаимодействуют феноменологическое и коммуникативное «я» реципиента/продуцента дискурса: «А вышеупомянутые картины и картинки, вплетенные в поток мысли, то появляются, то вновь исчезают, подобно сиюминутным иллюстрациям к тому или иному слову или мысли, и, таким образом, не используются в качестве каких-либо средств указания. С точки зрения языка они относятся к области наглядно осуществляемых определений называемых предметов. Дать им психологическое объяснение и понять пути их возникновения можно лишь в рамках учения о символическом поле языка. Предметом нашего рассмотрения будут воображаемые ситуации, которые являются «объектом указания». Чтобы приблизиться к цели, я хочу ответить на один вопрос: как обстоит дело, когда бодрствующий и пребывающий “в себе” (т.е. не грезящий наяву человек), говоря и описывая нечто сам, либо выступая в качестве слушателя, погружается в воспоминания или пускается в воображаемые путешествия и строит воображаемые ситуации?» [2: 121–122]. Воображаемые ситуации как объекты указания в пределах такого рода дискурса «находятся», так же как и два методологически релевантных для герменевтики дискурса «я», в духовной сфере личности, в качестве онтологических конструкций, разных типов реальностей, на которые обращена рефлексия при схватывании смысла в ходе распредмечивания средств дискурса. В [4] делается допущение, что дискурс, основанный на фактах, и дискурс, основанный на вымысле, понимаются одинаковым образом. Это может быть объяснено тем, что смыслы «есть» только в рефлексии, только в движении, в потоке коммуникации с человеком и текстом, они являют себя через самих себя, переживаются не через «отражение внетекстовой действительности», а через переживание же, пробуждаемое рефлексией в душе реципиента. Смыслы характеризуются как «данности сознанию»» [1: 18].
Понимание дискурса, таким образом, приобретает коммуникативнофеноменологический характер как движение рефлексии к онтологическим картинам в душе реципиента, как движение между феноменологической и коммуникативной онтологической конструкциями и далее к смыслам как данностям сознанию.
Структура герменевтического акта как процесса перехода от знака к смыслу, однако, опирается прежде всего на значение как отправную точку процесса понимания. Знак в дискурсе отражает динамический объект, относящийся к внешнему миру. Однако с этим связана масса нерешенных пока вопросов (не решенных в пределах семиотики, а не на интегративной основе). Значение , представленное означающим как вещи, так и объекта, изменяется, развиваясь во времени. Поскольку речь уже шла о событийности понимания протеканию дискурса, значение предстает в виде со-знания как знания о называемом объекте «здесь и сейчас». Значение как обозначение вещи, в том числе и в кантианском смысле, как чего-то, существующего вне и независимо от сознания, является одной из философских основ понимания, обеспечивая саму его возможность за счет достижения общности освоения значений в отличие от существования значений как обозначений конкретных объектов. Значительную роль в достижении понимания играет и прагматический аспект: переплетение аксиологического и телеологического принципов влияет на отбор значений и восстановление смыслов при понимании. Прагматический подход является и способом конкретизации значений, вследствие чего реализация смыслов на их основе приобретает суженный характер, что ведет к ограничению возможностей актуализации дополнительных контекстов и иных значений в процессе понимания, и яркой иллюстрацией зависимости знака от понимающего его сознания.
Поскольку знак представляет собой один из основных «кирпичиков» всей системы герменевтической методологии, ее обращение на разные типы речевых произведений – текст и дискурс – предполагает анализ особенностей освоения знака в разных видах деятельности по пониманию, определяемых различиями собственно речевых произведений и их освоения понимающим субъектом. Проблема понимания как перехода от знака к значению была поставлена еще Св. Августином, который сформулировал задачи и ограничил область действия науки о знаках, фактически предварив идеи современного семиотического подхода в теории познания и методологии герменевтики. Он определил языковой знак, отличив его от вещей и от неязыковых знаков, особо выделил познавательную функцию знаков; последовательно развел понимание собственного и переносного значения слов и предложил теорию и классификацию тропов; провел различение искусственных и естественных знаков, что стало прообразом дальнейшего деления языков на искусственные и естественные. Наука о знаках является для Августина введением в герменевтику [8: 152]. Соссюр определяет лингвистический знак как неразрывное един- ство означающего и означаемого [11: 105]: «… в любого рода семиологи-ческой системе постулируется отношение между двумя элементами: означающим и означаемым. Это отношение связывает объекты разного порядка, и потому оно является отношением эквивалентности, а не равенства. Необходимо предостеречь, что вопреки обыденному словоупотреблению когда мы просто говорим, что означающее выражает означаемое, во всякой семиологической системе имеются не два, а три различных элемента; ведь то, что я непосредственно воспринимаю, является не последовательностью двух элементов, а корреляцией, которая их объединяет».
Теория знака, значения и смысла важна не сама по себе. Скорее существенны те вопросы сферы коммуникации, которые могут быть решены с ее помощью. При выявлении номенклатуры операциональных оснований понимания дискурса следует обратиться к различным концепциям значения как основной операциональной единицы и основы понимания. В частности, психолингвистическая концепция значения позволяет выявить такие операционально релевантные для процесса понимания факторы, как предметность, перцептивно-когнитивно-аффективные образования (концепты), разного рода функциональные ориентиры, стоящие за словом у индивида [5: 431–432]. В частности, теория Уорфа, подразумевающая смещение картины мира от одного языка к другому, подразумевает и то, что сам язык фактически организует и выстраивает дискурс, касающийся мира. Эта организация осуществляется извне, и направляет узкий круг личного сознания, превращая его в марионетку, лингвистические маневры которой пребывают в неосознанных и не поддающихся разрушению оковах паттернов. Если язык насыщен бессознательными паттернами, то человек, говорящий на определенном языке, будет вынужден бессознательно говорить с миром, и в процессе обретения языка его взгляд на мир претерпевает некий сдвиг. Описывая то, каким образом структура языка влияет на восприятие человеком мира, Уорф [15: 257] выделяет два уровня значения, существующих одновременно в каждом языке. Поверхностный уровень – фенотип – имеет дело с дословными лексическими смыслами. Второй, скрытый уровень значения, по Уорфу, криптотип, функционирует в структурах языка, а, следовательно, и сознания в качестве данного неявно. Но смысловая полнота высказывания возникает как совместный продукт факторов фенотипа и криптотипа. «Факторы криптотипов, предложенные Уорфом, аналогичны “архетипам” Юнга, “инфраструктурам” Леви-Стросса и “символическому порядку” Лакана» [7: 103].
Итак, смысл в наиболее общих чертах, взятый в каждый момент течения дискурса, предстает в следующих основных ипостасях: 1) в виде реализованного значения в речевой цепочке; 2) в виде смысла, восстановленного на основе синтеза значения слова с синтаксической структурой, в пределах которой оно представлено в дискурсе; 3) в виде категоризованного смысла высказывания или его дроби (как часть содержательности текста).
Понимание дискурса, таким образом, представляет собой движение в пространстве, образованном различными типами дихотомий: на уровне значения – от криптотипа к фенотипу, на уровне смысла – от смысла как реализованного значения к категоризованному смыслу; на уровне рефлексии – между интерпретацией и пониманием; в ситуации продукции / рецепции дискурса – между ставшим и становящимся.