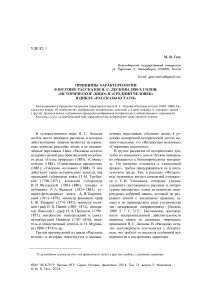Принципы характерологии в поэтике рассказов Н. С. Лескова 1880-х годов: "историческое лицо" и "средний человек" в цикле "Рассказы кстати"
Автор: Гесс Марина Викторовна
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Литературоведение
Статья в выпуске: 2 т.13, 2014 года.
Бесплатный доступ
Рассматриваются принципы построения характеров в цикле Н. С. Лескова «Рассказы кстати» (1883-1888). Исследуется вопрос об особенностях изображения исторических деятелей, с одной стороны, и «средних» людей - с другой. Делается вывод о сближении принципов изображения исторических и «обыкновенных» персонажей.
Художественный мир, характерология, историческое лицо, средний человек
Короткий адрес: https://sciup.org/147219011
IDR: 147219011 | УДК: 82:
Текст научной статьи Принципы характерологии в поэтике рассказов Н. С. Лескова 1880-х годов: "историческое лицо" и "средний человек" в цикле "Рассказы кстати"
В художественном мире Н. С. Лескова особое место занимают рассказы, в которых действующими лицами являются исторические деятели, реальные люди, а не вымышленные персонажи. Цикл «Рассказы кстати» содержит целый ряд произведений подобного рода: «Голос природы» (1883), «Совместители» (1884), «Таинственные предвестия» (1885), «Умершее сословие» (1888). В них действуют такие исторические деятели, как орловский губернатор князь П. М. Трубецкой (1798–1871), киевский губернатор И. И. Фундуклей (1804–1880), генерал и публицист Р. А. Фаддеев (1824–1883), генерал-фельдмаршал князь А. И. Барятинский (1814–1879), министр финансов граф Е. Ф. Канкрин (1774–1845), министр юстиции граф В. Н. Панин (1801–1874), император Николай I, граф Н. А. Протасов (1799– 1855), митрополит новгородский и санкт-петербургский Никанор (1787–1856), писатель и общественный деятель А. Н. Муравьев (1806–1874) и др.
Группа произведений из цикла «Рассказы кстати», в которых повествуется о вымыш- ленных персонажах, обычных людях в условиях конкретной исторической эпохи, немногочисленна: это «Интересные мужчины», «Старинные психопаты».
В группе рассказов об исторических деятелях из названного цикла Лесков намеренно обращается к биографическому материалу. Он трепетно относится к «жизненной правде», требуя придерживаться ее в писательском труде. Так, в рассказе «Интересные мужчины» автор с симпатией отзывается о Г. И. Успенском, которому удалось соединить достоверность рассказа и литературное мастерство: «один из немногих литературных собратий наших, который не разрывает связей с жизненною правдою, не лжет и не притворствует ради угодничества так называемым направлениям» [Лесков, 1989. Т. 7. С. 317] 1. Несомненно, достоверность воспроизведенной действительности является одним из основных творческих принципов Н. С. Лескова. В «Рассказах кстати» достоверность соотносится с историзмом, что требует от писателя особенной вы-веренности в построениях характера.
В анализируемых рассказах Н. С. Лескова об исторических деятелях («Совместители», «Голос природы», «Таинственные предвестия» и «Умершее сословие») в основе сюжета лежат какое-нибудь не очень значительное забавное событие, казус, исторический анекдот 2. Действующие лица часто попадают в курьезные ситуации. В рассказе «Умершее сословие», например, орловский губернатор князь Трубецкой неправильно истолковывает жалобу на учителя истории, рассказывавшего ученикам о французском «третьем сословии» (чем выказывает некоторое невежество), и грозится наказать ни в чем не повинного учителя за «бунтарское» направление мысли. Полный энтузиазма разобраться с несуществующей проблемой, князь «шумит», ругается, вне себя от негодования несется в пролетке по городу и сталкивается с тележкой купца. Злясь теперь уже на купца, губернатор забывает о проблеме «третьего сословия». Ситуация анекдотическая. В этом же рассказе с Трубецким случается «странное, но в то же время досадительное происшествие» с участием киевского губернатора Фундуклея. Персонаж рассказа вновь предстает человеком горячим и несколько высокомерным, все-таки попавшим впросак по своей вине. Автор описывает орловского губернатора, используя иронические коннотации: «Вообще как гражданский правитель Трубецкой походил, пожалуй, на Альберта Брольи, о котором Реклю говорит, что “по мере того, как он приходил в волнение, он начинал пыхтеть, свистать, харкать, кричать и трещать, гнев его походил на гнев восточного евнуха, который не знает, чем излить досаду”. Но Трубецкой имел еще перевес перед Брольи , потому что знал такие слова , которых Брольи , конечно , не знал , да , без сомнения , и не посмел бы употребить с французами (выделено нами. – М. Г. )» (С. 424).
Главная черта характера Трубецкого – горячность: «Ему главное было, чтобы имелся предлог “пошуметь”. <…> О начальниках, которых особенно хотели похвалить, всегда говорили: “Охотник пошуметь. Если к чему привяжется, и зашумит и изругает как нельзя хуже, а неприятности не сделает. Все одним шумом кончал”. <…> Таков был отчасти и князь Петр Иванович, и так же поступил он и в том случае, о котором будем беседовать, вспоминая его славное время» (С. 423). Лесков описывает персонажа с иронией мягкой, несколько снисходительной, но не несущей негативного оттенка: «На дворе, после погожего дня, проморосил дождичек и смочил киевские кирпичные тротуары, – гуляющих было мало, и князь мог “растопыриться”. Это было самое любимое его устроение своей фигуры, когда ему надо было идти, а не ехать. Он брал руки “в боки”, или “фертом”, отчего капишон и полы его военного плаща растопыривались и занимали столько широты, что на его месте могли бы пройти три человека: всякому видно, что идет губернатор» (С. 429).
С беззлобной иронией относятся к губернатору и орловцы. В рассказе встречается множество отсылок к «народному» мнению: как прозвали смышленные орловцы ту или иную привычку начальника губернии, оценивали особенности его характера. Приведем примеры этого коллективного мнения: «О нем так и говорили в Орле, что он “любит дерзить”», «Так в городе и говорили: “вот князь едет на выскочку” – и все по возможности прятались, чтобы не попадаться ему на глаза» (С. 424), «Уверяли, будто он был человек не злой, но невоспитанный и какой-то, – как его звали орловцы, – “невразумительный”»; «Через Тамбовскую губернию орловцы с пензяками перекликались: пензяки хвалились орловцам, а орловцы пензякам – какие молодецкие у них водворились правители. “Наш жесток”. – “А наш еще жестче”. – “Наш ругается на всякие манеры”. – “А наш даже из своих рук не спу-щает”» (С. 428).
Другое историческое лицо рассказа «Умершее сословие» – градоначальник Киева Фундуклей – предстает нелепым и застенчивым. По совету врачей, страдающий неизлечимыми лишаями вельможа 3 совершает по вечерам лечебные прогулки с зонтиком и собачкой: «Образованные люди, заметив его большую фигуру, закрытую зонтиком, говорили: “Вот идет прекрасная испанка”, а простолюдины поверяли по нем время, сказывая: “Седьмой час – вон уже дьяк с горы спускается”. “Дьяком” называли Фундуклея потому, что в своем длинном английском ватошнике он очень напоминал известную киевлянам фигуру златоустовского дьячка “Котина”…» (С. 430). Губернатор изображается в бытовой обстановке, в ироническом модусе.
Итак, оба эти исторические лица – Трубецкой и Фундуклей – предстают в анекдотическом контексте, внимание автора сосредоточено не на их исторических деяниях, а на повседневности, в которой оба они проявляют разного рода слабости. Трубецкой выглядит как вспыльчивый, невежественный и любящий власть человек. В то же время он совершенно лишен «злодейских» черт: он отходчив, побаивается собственной жены 4 и даже как-то по-детски обидчив. Фундуклей же, со своей нелепой якобы неизлечимой болезнью, скромностью, застенчивостью и неуклюжестью, и вовсе не кажется какой-то выдающейся и важной личностью. Эстетическая дистанция между читателем и «человеком историческим», таким образом, практически снята за счет «забытовления» характера. При обращении к прошлому в рассказах Лескова в целом, и в рассказе «Умершее сословие» в частности, сюжетной основой является не историческое деяние, а бытовой анекдот. Отсюда трактовка характера исторического лица как «обыкновенного» человека.
«Бытовая» интерпретация исторического лица распространяется на три других рассказа цикла. В рассказе «Совместители» министр финансов граф Е. Ф. Канкрин также попадает в «смешное положение» из-за своих амурных дел, а его бывшая любовница получает курьезную власть над ним. Однажды оказав протекцию мужу своей фаворитки Ивану Павловичу, граф вынужден подписывать указы о все новых и новых назначениях молодого человека. Подчиненные, посчитав Ивана Павловича протеже министра, старались угодить последнему посредством повышений ничтожного выскочки по службе.
В «Таинственных предвестиях» основным действующим лицом является писатель и общественный деятель А. Н. Муравьев. Вначале он заявлен как человек, который может оспаривать «право и на общественное уважение, и на набожность и благочестие» (С. 374). Однако в ходе повествования выясняется, что Муравьев, будучи лицом «очень замечательным, оригинальным», все же оказывается «достаточно смешон и уязвим во многом» (С. 376). Это человек со слабостями, честолюбивый и самолюбивый, склонный к интригам и довольно изворотливый. Так рушится его репутация «набожного и благочестивого».
В рассказе «Голос природы» исторические лица (писатель и генерал Р. А. Фаддеев, а также князь, генерал-фельдмаршал А. И. Барятинский) предстают хоть и не в курьезных положениях, но в совершенно «прозаических» сценах: в доме «чудака» Филиппа Филипповича. Последний долго не открывает фельдмаршалу «тайну» о том, где они раньше встречались, ссылаясь на «голос природы». Обе исторические персоны описаны в неофициальной обстановке, и ведут себя как частные лица: «Князь весело ему отвечает, что все это, говорит, очень хорошо, но я тебе должен признаться – я у тебя прекрасно спал, но, черт меня возьми (выделено нами. – М. Г. ), и во сне все думал: где же я тебя видел, или никогда не видал?» (С. 435), «Тут уже настало время самому фельдмаршалу сконфузиться, и он до того смешался, что нагнулся вниз, будто хотел салфетку поднять, а сам шепчет: “Ей-богу, не знаю, что ему сказать: что это он такое спрашивает?”» (С. 439). Таким образом, генерал, известный в свое время, становится героем «конфуза», а его военные подвиги остаются за пределами изображенного образа.
Исторические лица предстают в произведениях Лескова людьми незаурядными и обаятельными, но мало чем отличающимися от простых обывателей – культурно-бытовыми персонажами. Образ «исторического» человека у Лескова лишен официальной «портретности» и «парадности». Автора прежде всего интересует характер живого человека.
Вместе с тем в цикл «Рассказы кстати» входит рассказ «Интересные мужчины», в котором логика построения характера диаметрально противоположна рассмотренной нами. Условно можно назвать ее «историза-цией» лица, приданием частному лицу статуса исторического персонажа.
В начале рассказа «Интересные мужчины» автор называет своих героев «средними людьми» (С. 318). Однако по мере развития сюжета это определение становится недостаточным: «в сферах самых обыкновенных, где, кажется, ничего особенного ожидать было невозможно, являлись живые и привлекательные личности, или, как их называли, “интересные мужчинки”» (С. 318). Таков один из главных персонажей – корнет Саша: пытаясь сберечь от разоблачения свою детскую любовь, он совершает самоубийство. Самоотверженность юноши трогает сердца всего города: на его похороны «люди во множестве сами пришли отовсюду. Вдоль всего пути от гостиницы вплоть до кладбищенской церкви стали люди разного положения. Женщин больше, чем мужчин. Им никто не внушал, о чем надо жалеть, но они сами знали, что надо оплакать, и плакали о погибшей молодой жизни, которая сама оборвала себя “за благородность”. Да-с, я вам употребляю то слово, какое все говорили друг другу» (С. 354–355). Глубокие чувства «личной чести» и «чести женщины», по мысли рассказчика, делают обыкновенного корнета «интересным мужчиной». Автор замечает, что его персонаж – представитель эпохи, когда самый средний человек оказывался еще «чуднее» типа лермонтовских героев (С. 319).
В. Е. Хализев в статье «Художественный мир писателя и бытовая культура» убедительно показывает, что вещный, материальный мир героев Лескова состоит из предметов ярких цветов, праздничных, красочных, манящих: «Красочно-пестрый вещный мир Лескова затейлив, порой орнаметален и даже изыскан» [1982. С. 112]. Вещи украшают жизнь, придают ей дух «доброго веселья и бесхитростной шутки» [Там же. С. 117]. Такова концепция вещи, материального предмета в художественном мире Н. С. Лескова. Концепция человека в чем-то с ней схожа. Человек в художественной реальности Лескова также «украшен», он не «средний», а, наоборот, яркий, даже «пестрый», потому что в его характере уживается множество различных поразительных черт. Он всегда особенный, незаурядный. Его поступки изменяют жизнь окружающих людей, и в этом проявляется созидательное начало личности.
При этом в красочности и праздничности человеческой жизни нет парадности, пышности, этикетности или торжественности. Это естественная затейливость, особость и красота «лесковского человека».
«Средний» человек в художественной системе цикла «Рассказы кстати» сближается с «человеком историческим». Это сближение происходит по двум направлениям.
-
1. Исторические деятели показываются с бытовой стороны, тем самым уменьшается эстетическая дистанция между читателем и историческим лицом.
-
2. Обычные люди показываются со стороны великой, значительной.
«Героическое» движется по направлению к «обычному», а «обычное», наоборот, ‒ по направлению к «героическому». Исторические лица, помещенные Н. С. Лесковым в комическую или повседневную реальность, выступают в качестве культурно-бытовых персонажей («Голос природы», «Таинственные предвестия», «Совместители», «Умершее сословие»). В то же время обычный характер приобретает необычные, возвышающие его над «прозаической действительностью» черты. Поступок Саши, «среднего» человека, удивителен и по-своему велик, он «выламывается» из мерного течения жизни («Интересные мужчины»). Саша оказывается личностью, способной к изменению жизни и окружающего мира. При всей трагичности Сашиного выбора, последний в основе своей является поступком-преображением. Мы можем проследить двойную событийность: на сюжетном уровне (действие как последовательность поступков героя) и на характерологическом («пробуждение» особенного человека).
Таким образом, в позднем творчестве Н. С. Лескова воплощается «двойное видение» характера: историческое лицо воспринимается как «обыкновенное», а «средний человек» – как необыкновенная личность, способная на исключительный поступок.
Список литературы Принципы характерологии в поэтике рассказов Н. С. Лескова 1880-х годов: "историческое лицо" и "средний человек" в цикле "Рассказы кстати"
- Синякова Л. Н. Человек, событие, история: художественноантропологическая архитектоника цикла Н. С. Лескова «Рассказы кстати» // Русская литература: национальное развитие и региональные особенности: Материалы Х Всерос. науч. конф., посвящ. 100летию со дня рожд. И. А. Дергачева: В 2 т. Екатеринбург, 2012. Т. 2. С. 354-361
- Хализев В. Е. Художественный мир писателя и бытовая культура (на материале произведений Н. С. Лескова) // Контекст-1981. Литературно-теоретические исследования: Сб. ст. М.: Наука, 1982. С. 110-145