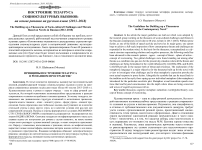Принципы построения тезауруса в романном пространстве
Автор: Шайтанов Игорь Олегович
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Построение тезауруса социокультурных вызовов: на основе романов на русском языке (2013-2018)
Статья в выпуске: 3 (50), 2019 года.
Бесплатный доступ
В статье излагаются принципы, выдвинутые исследовательской группой, разрабатывающей тезаурус социокультурных вызовов и угроз на материале современных романов на русском языке (более 60 текстов 2013-2018 гг.). Художественная проза и роман в первую очередь - одна из сфер речевой деятельности, без которой невозможно полномасштабное представление о реакции современного сознания на проблемы и вызовы времени. За основу тезауруса, понимаемого как динамическая структура отношений и когнитивных процессов, принята модель: пациенс - агенс - концепт угрозы - сфера угрозы - концепт преодоления. Были определены два глобальных вызова, выступающих не в качестве отдельной угрозы в ряду других угроз, но в качестве условия sine qua non для современной ситуации. Вызовы и угрозы формируются в условиях ВСЕМИРНО- СТИ / ГЛОБАЛЬНОГО МИРА и оцениваются, разрешаются / не разрешаются под знаком РАДИКАЛИЗМА. Освоение тезаурусом метафоризированного языка есть главная задача его построения для романа с целью выяснить, на какие вызовы острее всего реагирует художественный дискурс, в каких концептах преломляет его. Наряду с символами, восходящими к традиции, вплоть до мифологической, вырастают новые идеометафоры, введенные автором именно сейчас и для данного романного пространства. Языковая метафорика обнажает непосредственную реакцию, уводящую из светлой полосы сознания на его интуитивную глубину, где формируются смыслы, возникают волны когнитивных процессов.
Тезаурус, когнитивная метафора, радикализм, всемирность / глобализм, концепт угрозы, преодоление
Короткий адрес: https://sciup.org/149127175
IDR: 149127175 | DOI: 10.24411/2072-9316-2019-00066
Текст научной статьи Принципы построения тезауруса в романном пространстве
Художественная проза - одна из сфер речевой деятельности, без которой невозможно полномасштабное представление о реакции современного сознания на угрозы и вызовы времени. Разумеется, она специфична и, в отличие от публицистического или документального дискурса, требует учета сложно организованной речевой среды, представляющей множественность точек зрения, многоголосо оформленных. Даже в отношении героев вычленение однозначной реакции затруднительно и часто ошибочно / гипотетично, а в том, что касается автора, само многоголосие и есть выражение его позиции (эта мысль М.М. Бахтина хорошо известна и оценена). Разумеется, лишь аналитическое прочтение текста позволяет реконструировать эту сложно сплетенную сеть идеологического пространства. В задачу тезауруса такая реконструкция входит лишь отчасти, предполагается как последующий шаг, для которого точечная фиксация
** The study is conducted with support from tire grant project by RSF (project No. 17-78-30029).
понятий может выступить в качестве вспомогательного словаря, дающего представление о ключевых концептах, способах их выражения и о характере когнитивной метафоризации.
Максимум, на что может претендовать тезаурус, построенный на основе художественной речи, - дать первоначальное представление не только о словарной составляющей текста, но также и о динамике отношений внутри него, учитывающей направленность вызова - от кого он исходит (агенс) и на кого направлен (пациенс); и, что важно, если мы говорим о художественном тексте, - возможность преодоления, которая в традиционных литературоведческих терминах формулируется как способ разрешения конфликта или утверждение его неразрешимости (что определяется целостным, т.е. жанровым, характером текста). Тезаурус также способен включать пространство / сферу возникновения угроз во всю широту географии и социальных страт, на всю глубину истории; само это пространство или его часть может выступать в качестве пациенса, что сегодня особенно часто становится предметом рефлексии в отношении форм традиционного уклада.
Сразу нужно сказать о том, что задача построения тезауруса для художественного текста предполагает его поэтику лишь в одном смысле: знание законов поэтического преломления объекта с целью их учета при использовании текстов как источника, т.е. социокультурного свидетельства при изучении ментальности, общественного настроения. Художественный текст в таком случае используется отвлеченным от своей поэтической функции; она должна быть осознана как призма видения, на которую требуется сделать поправку, чтобы художественный текст мог быть использован как свидетельство в ряду документов эпохи. И в то же время было бы ошибочно считать, что операция изучения поэтической функции с целью ее отвлечения вовсе бесполезна для ее понимания. Отнюдь нет: чтобы точно скорректировать зрение, нужно установить законы коррекции и одновременно осознать сам способ поэтического преломления как идеологически окрашенный. Разумеется, сама эта задача находится за пределами построения тезауруса.
И эта задача не ставилась перед нашей группой. В ходе работы мы двигались двумя путями; с одной стороны - путем аналитического исследования на материале истории идей, определив круг ключевых (superordinate) понятий, характеризующих ментальное состояние культуры, и выделив наиболее устойчивые факторы, угрожающие стабильности.
С другой стороны, была проведена «полевая» работа по обработке информации, полученной в ходе чтения и анализа современных романов. Обработка материала с целью построения тезауруса представлена следующими результатами:
-
- таблица на основе романов, где первая колонка - библиографическое описание текстов, вторая - перечень ключевых идеометафор (идеометафора - термин, производный от обозначения индивидуального стиля - идеостиля), третья - определение характера угроз согласно их классификации,
принятой в данном проекте;
-
- таблица на основе угроз, в которой дан перечень основных угроз с отнесением к ним романов, где они обнаружены;
-
- графическое оформление схемы тезауруса и отображение в ней в качестве базового уровня концепта угрозы (см. ниже);
-
- разметка романных текстов, включенных в корпус, с выделением цветом фрагментов угрозы и вызова, а в них - ключевых идеометафор и концептов.
В плане истории идей мы определили два глобальных вызова, выступающих не в качестве отдельной угрозы в ряду других угроз, но в качестве условия sine qua non для современной ситуации. Любая значительная проблема современной истории: политическая, национальная, нравственная, ценностная, - определяется тем, что если она и не рефлектируется в своей ВСЕМИРНОСТИ, то, безусловно, определяется состоянием современного мира как глобального. Невозможно задаться важным вопросом, чтобы за ним не потянулась длинная цепочка аргументов, аналогий и прецедентов, следствий и последствий, демонстрирующих, что вопрос вины / правоты, права / нарушения права нельзя искать только в обсуждаемой ситуации. Трансформация самого понятия «мировая история» (Weltgeschichte), как оно возникает и осознается на рубеже XVIII-XIX вв., в понятие «глобализм», играет определяющую роль в том, как выглядят современные вызовы и угрозы, как читаются современные конфликтные ситуации (этой проблематике посвящена статья, написанная в плане работы нашей группы: [Шайтанов 2018], [Shaytanov 2018]).
Проблема всемирное™ не нова, и если сегодня она кажется исключительно современной и существует исключительно под именем ГЛОБАЛИЗМА, то это лишь одно из проявлений понимания современной истории, обособляемой от своей традиции. О ней вспоминают так редко, что в предисловии к переводу одной американской книги о глобализации в качестве мотивируюшего аргумента за ее издание выдвигается в качестве принципа, отличающего ее, тот факт, что «автор встраивает описание происходящих ныне процессов в широкий исторический контекст. Он подчеркивает, что нынешняя волна глобализации вовсе не первая» [Завадников 2005, 8]. Такого рода забывчивость лишь подчеркивает важность осознания современных вызовов в их всемирном / глобалистском качестве.
Второй слот связан с формами, в которых выражают себя как современные вызовы, так и ответная реакция на них, - РАДИКАЛИЗМ (истории этого явления в российской ментальности посвящена отдельная статья: [Шайтанов 2017]). Иными словами, наш самый общий тезис формулируется следующим образом: современные вызовы и угрозы формируются в условиях всемирности / глобального мира и оцениваются, разрешаются / не разрешаются под знаком радикализма.
Если строить схему тезауруса, отражающую не только понятия, но и динамику их связей, то можно предложить графическое отображение ее слотов в следующем виде:

СФЕРА РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПТЫ ПРЕОДОЛЕНИЯ
КОНЦЕПТЫ УГРОЗЫ
АГЕНС ПАЦИЕНС
Выполненная на основе этой графики плоскостная схема фрейма «угроза», естественно, не могла бы в полной мере вместить ни динамики отношений, ни их разнообразия. В идеале предполагается многомерная структура, дающая представление о полноте связей, их иерархии и глубине языкового проникновения, не останавливаясь на уроне концептуального обобщения, но достигая вплоть до непосредственных речевых / бытовых поводов возникновения когнитивных метафор. Только в этом случае «фрейм выступает [не] как декларативный способ представления знаний, а сценарий - как процедурный способ представления информации, т.е. <...> динамическое единство» [Боярская 2017, 240].
Всемирность и радикализм явились бы внутри фрейма «угроза» в положении слотов более высокого уровня по отношению к концепту угрозы в целом. Радикализм характеризует как действия агенса, так часто и действия пациенса (вступая в противоречие с самим понятием «пациенс»), Всемирность определяет если не непосредственную сферу реализации, то ее перспективное распространение и глобальную связь.
Ощущая универсальность современного радикализма в качестве концепта преодоления, современные романисты рекомендуют чаще всего способы пассивного ответа на вызовы: толерантность, бегство от действительности, нравственная жизнь: любовь - свадьба - дети; сохранение традиций: культура - язык - музей; память: письма - дневники; вера/дове-рие, нравственная жизнь / самоидентификация... В какой мере эти способы утопичны и относимы к области желательных рекомендаций? Музей, даже созданный, может быть если и не уничтожен, то коммерциализирован и обессмыслен (П. Алешковский, «Крепость», 2015); однако дневники, письма пишутся, доходят до тех, кто способен их понять, превращая в память или в ключ к ней (Н. Громова, «Ключ. Последняя Москва», 2013).
Рекомендуемые стратегии поведения в качестве способов преодоления нередко должны быть выраженными концептами с уточняющими их эпитетами: вера - не фанатичная, бизнес - честный. Современные романисты часто прибегают не к абстрактным понятиям, а к концептам метафорическим. Вот ряд метафор преодоления: ключ, дверь, дом, дневники, письма, дорога, икона (окно в божий мир), интернет (информация), свадьба, маршрутка, морской путь... (о характере метафорики современного романа см. подробнее: [Луценко 2018], [Погорелая 2018]).
Нередко романисты, склонные к метафоризации: П. Алешковский, М. Гиголашвили, Н. Громова, Р. Сенчин, О. Славникова, - знаком ее ожидания делают само название романа. Плотность метафорического языка, разумеется, не может служить доказательством художественного качества текста, но она является указанием на то, что романист пытается войти в неповерхностные слои языка, разговорить сам язык. Метафорическая бедность, которая также ничего не гарантирует и ни в чем не уличает, все-таки - знак плоскостного, публицистического письма.
В романе Натальи Громовой «Ключ. Последняя Москва» метафорическое ожидание, предсказанное названием, многократно оправдывается, предвосхищает метафорический лейтмотив всего повествования:
«Я взяла ключ в руки, и в тот момент мне показалось, что я непременно найду дверь, которую он откроет» [Громова 2013, 11].
«Тогда я ясно увидела, как стою перед балконной дверью нашей квартиры на двенадцатом этаже <...> мне десять лет, а передо мной лежат ряды Конюшковской деревянной слободы, которые через несколько лет запылают и совсем исчезнут с лица земли» [Громова 2013, 15].
«Я и не знала сначала, как можно “посмотреть” архив. Это потом он стал для меня как дом с множеством комнат, двери которых или заперты, или широко открыты» [Громова 2013, 41].
«Обычно наши встречи начинались с долгого звонка в дверь» [Громова 2013, 113].
Дверь ведет в пространство памяти, ключ - разрешение на вход в это пространство. Метафоры сохранения памяти: дневники, письма; музей, или даже - кладбище, как у Романа Сенчина в «Зоне затопления» (2015), в еще одном романе с метафорическим названием «затопление» - один из метафорических концептов уничтожения памяти. Очевидно, что в современных идеометафорах аксиологическая маркированность метафор очень различна: одно дело - зона затопления, совсем иное - маршрутка у Ксении Букша («Открывается внутрь», 2018). Наряду с символами, восходящими к традиции, вплоть до мифологической, вырастают новые концепты, введенные автором именно сейчас и для данного бытового пространства. Букша проскваживает смысловое пространство метафорами «дорога», «путь», по которым концептом преодоления курсирует «маршрутка», движущаяся от окраины к центру, соединяя «окраинную», дисфункциональную, жизнь, и «центровую» - условно благополучную:
«Маршрутка номер 306, жестяная белая коробка с фарами...» [Букша 2018, 9]
«Вот она и поехала тушить пожар на маршрутке. На триста шестой» [Букша 2018, 56].
«Никаких маршруток <.. > Такси вызываем, и все» [Букша 2018, 234].
«Маршрутка дрейфует к краю тротуара, открывает двери и всех выпускает» [Букша 2018, 241].
Традиционная метафорика обновляется не только за счет введения концептов бытовой современности, но и за счет трансформации старых смыслов, вплоть до противоположности. У Михаила Гиголашвили («Тай- ный год», 2016) икона - окно в Божий мир, взгляд Бога, присматривающего сквозь икону за исполнением «властной программы» носителем власти - Иваном Грозным. А молчание икон - обличение: «Иконы молчали...» [Гиголашвили 2016, 129], - если не их дьявольское перерождение: «Шиш, бери икону со стены, будешь впереди нести... Да не нарядную, а вон ту, Богоматерь-Скорбь, что у Малюты в пыточной висела!» [Гиголашвили 2016, 266]
Освоение тезаурусом метафоризированного языка и есть главная задача построения тезауруса для романа с целью выяснить, на какие вызовы острее всего реагирует художественный дискурс, в каких концептах преломляет его. Именно языковая метафорика здесь особенно важна, поскольку обнажает непосредственную реакцию, уводящую из светлой полосы сознания на его интуитивную глубину, где формируются смыслы, возникают волны когнитивных процессов. В бытовом, предметном осмысляется и узнается бытийственно существенное.
Итак, в работе нашей группы мы пытались двигаться двумя путями. С одной стороны - в плане истории идей осмыслить, пространство, в котором реализуются сегодняшние вызовы, с другой - понять угрожающий характер как самих вызовов, так нередко и способов их преодоления. В этом ключе были отрефлектированы понятия ВСЕМИРНОСТЬ / ГЛОБАЛИЗАЦИЯ и РАДИКАЛИЗМ.
Каждое из них может быть представлено и разработано в цепочках репрезентирующих их понятий. В свете глобально понимаемой всемирное™ проблематизируется каждый из ключевых концептов, с ним связанных:
НАЦИЯ - ТЕРРИТОРИЯ - ЯЗЫК - КУЛЬТУРА.
Аналогично радикализм окрашивает все традиционно противостоящие идеологемы:
НАЦИОНАЛИЗМ - ПАТРИОТИЗМ - ФАШИЗМ - ЛИБЕРАЛИЗМ.
Свобода по-прежнему отделяется от ответственности; компромисс смешивается с конформизмом; интеллигенция противостоит быту / мещанству и неизменно - власти. Все эти разрывы традиционны для российской ментальности и традиционно обеспечивают радикализацию противостояния. Однако в какие понятия облачены они сегодня? В каких осознаются концептах и когнитивных метафорах в романном пространстве?
Список литературы Принципы построения тезауруса в романном пространстве
- Боярская Е.Л. Концептуализация события: интегрированный подход к анализу событийного фрейма // Репрезентатация события. Интегрированный подход с позиции когнитивных наук: коллективная монография / отв. ред. В.И. Заботкина. М., 2017 С. 237-251.
- Букша К. Открывается внутрь. М., 2018
- Гиголашвили М. Тайный год. М., 2016
- Громова Н. Ключ. Последняя Москва. М., 2013
- Завадников В. Предисловие издателя // Линдси Б. Глобализация, повторение пройденного. Неопределенное будущее глобального капитализма / пер. с англ. Б. Пинскера. М., 2005 С. 7-9.
- Луценко Е. Угрозы и вызовы современной дистопии. Языковая реальность романа Елены Чижовой "Китаист" // Вопросы литературы. 2018 № 6 С. 69-91.
- Погорелая Е. "Тобол" vs "Игра престолов". Когнитивная метафорика современного исторического романа // Вопросы литературы. 2018 № 6 С. 34-49.
- Шайтанов И. "Мировая литература" как проблема и вызов // Вопросы литературы. 2018 № 6 С. 13-33.