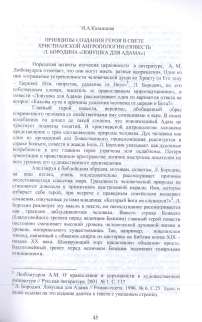Принципы создания героя в свете христианской антропологии (повесть Л. Бородина "Ловушка для Адама")
Автор: Казанцева Ирина Александровна
Журнал: Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология @philology-tversu
Рубрика: Литературоведение
Статья в выпуске: 3, 2005 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена повести Л. Бородина "Ловушка для Адама", в которой автор рассматривает один из вариантов ответа на вопрос: "Каковы пути и причины удаления человека от церкви и Бога?".
Л. бородин, церковность в литературе, христианская антропология
Короткий адрес: https://sciup.org/146120404
IDR: 146120404 | УДК: 82.09:[821.161.1-31+929Бородин:27]
Текст научной статьи Принципы создания героя в свете христианской антропологии (повесть Л. Бородина "Ловушка для Адама")
ПРИНЦИПЫ СОЗДАНИЯ ГЕРОЯ В СВЕТЕ ХРИСТИАНСКОЙ АНТРОПОЛОГИИ (ПОВЕСТЬ Л. БОРОДИНА «ЛОВУШКА ДЛЯ АДАМА»)
Определяя аспекты изучения церковности в литературе, А. М. Любомудров отмечает, что они могут иметь разные направления. Одно из них «отражение ус гремленности человеческой души ко Христу (и Его телу - Церкви). Или, напротив, удаление от Него»1. Л. Бородин, по его собственным словам, писатель «с православным мироощущением», в повести «Ловушка для Адама» рассматривает один из вариантов ответа на вопрос: «Каковы пути и причины удаления человека от церкви и Бога?»
Главный герой повести, вероятно, обобщенный образ современного человека со свойственными ему сомнениями в вере. В своих колебаниях он дошел до такой степени, что новоявленный Адам не чувствует подмены понятий. В христианской антропологии заложено представление о трех составляющих природы человека. Дух человека как одно из проявлений его божественного происхождения реализуется в страхе Божьем, совести и жажде Бога. Л. Бородин указывает, как духовные потребности в его главном герое утрачены или ослаблены. Потеря ориентации в нравственном пространстве логично выстроена писателем на всех уровнях его художественного произведения.
Апеллируя к библейским образам, мотивам, сюжетам, Л. Бородин, на наш взгляд, очень последовательно рассматривает причины несостоявшегося спасения мира. Греховность человеческой природы не становится довеском к примитивно выстроенной морали. Имя, которое избирает себе герой, при встрече с праведным семейством вызывает сомнения, озвученные устами младенца: «Который Бога не слушался?» . Л. Бородин реализует эту мысль в тексте, но непослушание рассматривается как трагедия заблудившегося человека. Вместо страха Божьего (благоговейного трепета перед величием Божиим) главный герой повести постоянно смешивает высокий уровень человеческой духовной жизни и уровень материального существования. Так, например, показателен эпизод, связанный с обменом спирта из цистерны на Библии конца XIX -начала XX века. Шокирующий торг представлен обыденно просто. Благоговейный трепет перед величием Божиим подменен товарными отношениями.
Христианские категории воспринимаются героем только в сниженном контексте. Например, мысли о христианской любви связаны для персонажа с нетрезвым состоянием. Л. Бородин, на наш взгляд, настойчиво эксплуатирует ситуацию пребывания человека в неадекватном состоянии, чтобы показать максимальное удаление Адама от Бога, ставшее следствием его непослушания. Поэтому важнейшие христианские заповеди его герой способен переживать только тогда, когда он далек от нормы. «...Пьяный я на целый порядок лучше себя трезвого. Я знаю это и горжусь. Пьяный я щедр, добр и любвеобилен. Не в пошлом, разумеется, смысле слова, .. но в христианском , когда буквально переполняешься любовью к ближним, потому что, во-первых, обнаруживаешь в них массу не замеченных ранее достоинств, а во-вторых, как-то по-особому понимаешь вторичность их недостатков» (7). Трансформировано в произведении и отношение к христианским ценностям. Интуитивно верное представление о смысле молитвы соседствует с бездарными рассуждениями учительницы Светланочки о мужском монастыре. Попытка ощутить мир как Божье творение сочетается в Адаме с желанием утвердить свою собственную избранность. Показательно, что и в восприятии божественности мира снижение достигается за счет стилистической игры. В одном контексте Л. Бородин сталкивает слова высокого и низкого ряда. Вульгарное «подфартило» соседствует с эпитетом «богоохранная местность». «Он объективно хорош, наш город... Все ли... граждане данного исключительного города осознают, как им подфартило проживать в богоохранной местности» (5). В данном случае скепсис героя относится скорее не к самой местности, а к восприятию ее неким «русопятом». Но поскольку ирония по поводу взгляда «русопята» соседствует с размышлениями о любви к ближнему, которая проявляется только в неадекватном состоянии, то логично возникает вопрос и о душе и о состоянии самого Адама, стремящегося утвердить свою избранность даже в особом видении своего городка, свойственном только ему или местным жителям. Именно это и подталкивает Адама к заключению, что «вера - все равно во что - это особый вид мозгового заболевания» (6).В целом получается, что одно из проявлений духовной природы человека подвергнуто сомнению.
Для иллюстрации этой идеи Л. Бородин использует смешение различных стилевых уровней, уровней жизни (материальный и духовный), .социальных общностей (столица и провинция, бомжи и интеллигенты и т.п.). Взаимодействие высокого и низкого в представленных уровнях создает своеобразную систему, показывающую степени отдаления человека от Бога. Путь человека от Бога, воплощенный в образе главного героя, последовательно показан и в другом проявлении духовности -жажде Бога как стремлению к чему-то высшему, что, несмотря ни на что в герое присутствует. Л. Бородин художественно воплощает эту мысль неоднократно апеллируя к категории преображения и символике праздника преображения. Своим преображением спаситель показал, какими станут люди и мир в будущем Царствии Небесном. Жажда Бога, явленная в стремлении к идеальному, в Адаме сохраняется. Он вспоминает, как порадовался, что «именем и памятью мамы прозреваю и переосмысливаю окружающий мир, слова и поступки, что постепенно, но неотвратимо происходит мое преображение, накопление некоего качества, за которым последует взрыв, после чего начнется жизнь глазами к небу, то есть туда, где мама...» (9). Конечно, для героя мысль о новом существовании связывается еще не с Богом, но с образом матери, которая для него своеобразный проводник в иной, идеальный мир. Уже попав к Озеру, он свое новое состояние воспримет как преображение, порожденное пребыванием в идеальном мире. «Одного взгляда, одного вздоха хватило, чтобы понять, что попал я в то единственное место на Земле, где счастье м радость растворены в каждой клетке и молекуле, в каждом атоме материального вещества, а более всего в воздухе и воде. Вдыхаешь воздух' — вдыхаешь счастье, пьешь воду - упиваешься радостью! И преображаешься, и очищаешься... Я еще не испытал этого, но предчувствовал, догадывался... Я попросту знал!» (14).
Таким образом, Л. Бородин неоднократно обращается к библейскому мотиву преображения, который в финале реализуется совершенно неожиданно, так как его символика противоположна символике христианского преображения. Возникновение в тексте библейских персонажей чаще всего иллюстрирует мысль об удалении человека от Бога. Так, упоминание Моисея, например, связано с указанием на облегченные условия достижения земли обетованной современным человеком. То, что современный герой даже идеальный мир не соотносит не с Богом и воспринимает его не через чувство, а через знание, то, что мир этот составлен из привычных ему материальных частиц, подчеркивает длину дистанции, отделяющей заблудившегося Адама от Бога. Не готов он поверить чувству, а не знанию, не готов он к восприятию божественного.
Л. Бородин помещает своего героя в некий неназванный старинный город, вероятно, хранящий дыхание древней христианской Руси. Само место обязательно связано с чистотой Озера, и местность названа «богоохранной». В соответствии со своим назначением очистительная стихия могла бы подсказать Адаму верный путь. «К воде шел медленно и трепетно, как к причастию» (15). Образ воды, ассоциативно связанный с христианскими таинствами крещения и причащения, контрастирует с душевным состоянием Адама. Озеро становится враждебной герою стихией. Все же оно подсказывает Адаму ложность его пути. Одержимость гордыней, каким-то особым представлением о собственной миссии не дает возможности Адаму услышать предзнаменование. Подготовленный всей прошлой жизнью к ошибке, он встречается с о. Викторием, к которому его привела, как выяснится позже, тропа через Чертов мост. Искушения властью Адам не выдерживает. Л. Бородин выстраивает оппозицию разум - душа, иллюстрируя борьбу между ними. Разум, захламленный «бесовскими ритмами», не способен услышать предостережения души, придать значение атрибутам, сопровождавшим о. Виктория (например, «вонь от лампады»). Через сниженные атрибуты церковной власти, предостережения, исходящие от Озера, диалог героя со своим внутренним голосом, вероятно, голосом совести через Бога в душе («Не уступи, не подчинись!» -вопила моя душа» /21/), через псевдопроповедь о. Виктория, переворачивающего христианские представления о мире и любви к ближнему Л. Бородин доносит до читателя мысль о поврежденной греховной природе его героя. И показательно, что не Бог, а о. Викторий стал «первым человеком,., которому мне хочется подчиниться», -утверждает Адам (24).
После новой встречи Адама охватывает ощущение придавленности к земле. Но мечты о том, что место, где окажется он, станет новым Вифлеемом, не дают возможности услышать в псевдопроповеди о. Виктория явно сатанинский подтекст. Извращая представления о любви христианской, он вещает о ненависти к себе и миру. Соотнося жизнь семьи праведников, их чистые представления о вере, молитве с поступками Адама, Л. Бородин иллюстрирует мысль о мудром знании сердца, а не ума. Это знание апеллирует к евангельской истине «будем как дети», избавляет от праздности духа, приводит героя к открытию об ином сердечном знании не только у ребенка, но и его отца Антона.
Местом нового рождения для Адама становится мастерская Антона, из которой он вышел человеком, готовым действовать как разрушитель гармонии. Неслучайно верно найденное композиционное решение (прошлое - настоящее - сновидения) усиливает мотив душевной глухоты Адама. В очередном сно-видении приходит Вася, чтобы отметить логическое завершение борьбы между разумом и чувством главного героя («душа умерла», «через тебя все мертвые» /40/). Эта метафора знаменательна, так как именно теперь Адам способен к поступку, к которому его подталкивал незнакомец. Апеллируя к библейским образам, Адам и причину богоизбранности Авраама и его народа видит том, что это было самое безобразно дикое племя. В этом оправдание его собственной дикости. Действительно, в нем самом этой дикости, которая не позволяет воспринимать перевернутость истин, с избытком. Следствием этого является и его поведение в быту. Адам удивляется отсутствию недоверия, зависти, проявлениям естественной любви в семье Антона и Ксении. Не подозревая до конца о своей роли, он даже воображает себя новым Спасителем.
В финале возникает деканонизированный образ распятия. В видениях Адама сначала снижается смысл хождения по воде. Затем герой обращается к о. Викторию, утверждая, что в настоящее время не нужно даже распятия, чтобы спасти человечество. Упрощены пути, уводящие от Бога. В заключительном диалоге о. Виктория и Адама проясняется смысл ловушки, в которую легко заманили героя. Его бессильный гнев против искусителя выражен с помощью тех же средств (снижения смысла библейских нравственных категорий, сюжетов, мотивов и образов).
Таким образом, вариант апокалипсиса для современного человека выглядит как реализация двух отношений к роли Христа в мире. Первое высказывает о. Викторий: «Чтобы отвратиться от своего греха, надо сначала возненавидеть его в других, в других он виднее. Так начнется твой путь к ближним - через любовь к себе и ненависть к ним» (22). Согласно второму живет Антон: «Стал... чувствовать, вот будто есть все время кто-то за спиной, дышит в затылок...добрый, можно не оглядываться...» (29).
На наш взгляд, у Л. Бородина черты апокалиптического повествования становятся средством выражения авторского отношения к процессам, происходящим в современном обществе. Апеллируя к Бегсею Девиду, А. Варламов в кандидатской диссертации «Апокалиптические мотивы в русской прозе конца XX века» (М., 1997) рассматривает четыре признака апокалиптического повествования: 1) важную структурообразующую и тематическую роль канонического текста в оригинальном повествовании; 2) связь с живой традицией, к которой примыкает произведение, вступая в диалог; 3) склонность к прочтению современного исторического процесса через призму Апокалипсиса; 4) апокалиптический сюжет, чья глубокая или мифологическая структура в современных условиях является перифразом Апокалипсиса.
Мы наблюдаем образно-тематические связи повести Л. Бородина с текстом Откровения Иоанна Богослова. Налицо склонность прочтения современного исторического процесса через призму Апокалипсиса, мифологическая структура сюжета «Ловушки для Адама» - своеобразный перифраз библейского первоисточника.
Запутавшийся Адам начинает свой путь из подвала Петра. Это место ассоциируется у него с райским уголком. Потеря мировоззренческих ориентиров символически воплощена в художественном пространстве. Через детали интерьера Л. Бородин выражает мысль о подмене истины. Именно она и приведет Адама к разрушению гармонии в семье Антона и Ксении, и шире - к разрушению гармонии в мире, где «Он сам по себе, а люди сами по себе», - говорит о. Викторий (45).
Символика имен тоже приводит к библейским ассоциациям. Адам - первый человек, к тому же не послушавшийся своего Творца. Петр -несомненный авторитет для Адама. Имя восходит к имени апостола Петра. Первым из всех он исповедал свою веру перед Христом, который выделил его из учеников, сказав, что на этом камне устроит свою церковь и даст ему ключи от Царствия Небесного. Именно Петр начал прекословить Спасителю. Петр первый отречется от Христа трижды. Поддается соблазну сатанинскому Петр - герой «Ловушки для Адама», а под его давлением и Адам удаляется от пути истинного. Символично, что не ключи от Царствия Небесного, а ключи от подвала будут у Петра. Нет в повести публичного отречения, но диалоги героев о вере, отношение Петра к церкви - это следствие более раннего внутреннего отречения. В современных условиях на таком «камне», фундаменте удалось построить не церковь, а иное, не веру, а безверие. Поэтому герой находится в болезненном состоянии, которое он считает нормой. Показательно, что Христос дает шанс Петру, трижды обратившись к нему и прощая его за отречение. Мученическая смерть Петра за Христа подтвердит в будущем правду Спасителя и меру его прощения. В повести Л. Бородина Петр тоже погибает, но смерть его лишена смысла, и эта бессмысленность затягивает и Адама в воронку пустоты, позволяет ему стать жертвой искусителя. Это проще и доступней, и выбор его предопределен именно этими причинами. В Евангелии от Иоанна сказано: «Истинно, истинно говорю тебе: когда ты был молод, то препоясывался и ходил, куда хотел; а когда состаришься, то прострешь руки твои, и другой препояшет тебя, и поведет, куда не хочешь» (Евангелие от Иоанна: 21; 18). «
Шансов на искупление вины у современного, «спасшегося» от веры человека, практически нет. Перед вечными вопросами герои Л. Бородина поставлены в конце XX века, и ответ на них неутешителен для человечества.
Итак, образная система, основанная на принципах христианской антропологии, позволяет автору через апелляцию к важнейшим библейским нравственным категориям, мотивам, сюжетам реализовать свой художественный вариант современного Апокалипсиса.