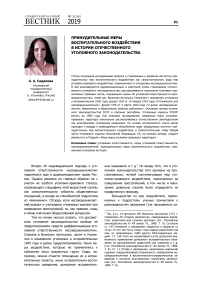Принудительные меры воспитательного воздействия в истории отечественного уголовного законодательства
Автор: Сидакова Алена Александровна
Журнал: Симбирский научный Вестник @snv-ulsu
Рубрика: Юриспруденция
Статья в выпуске: 2 (36), 2019 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена исследованию вопроса о становлении и развитии института принудительных мер воспитательного воздействия как самостоятельного вида мер уголовно-правового воздействия, применяемого в отношении несовершеннолетних. В ней анализируются дореволюционный и советский этапы становления отечественного уголовного законодательства, рассматриваются положения ключевых нормативных правовых актов, содержащих нормы об уголовной ответственности несовершеннолетних, такие как: Воинские Артикулы, Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 года, Декрет СНК от 14 января 1918 года «О Комиссиях для несовершеннолетних», Декрет СНК от 4 марта 1920 года «О делах несовершеннолетних, обвиняемых в общественно опасных действиях», Основные начала уголовного законодательства СССР и союзных республик, Уголовные кодексы РСФСР вплоть до 1960 года. Как показало исследование, названные меры уголовноправового характера изначально рассматривались отечественным законодателем как альтернатива уголовному наказанию. На основе исторического опыта автор приходит к выводу о необходимости обособления норм, образующих институт принудительных мер воспитательного воздействия, в самостоятельную главу Общей части Уголовного кодекса Российской Федерации. Ее, по мнению автора, следует разместить в Разделе «Иные меры уголовно-правового характера».
Уголовная ответственность, меры уголовной ответственности, несовершеннолетний, принудительные меры воспитательного воздействия, ювенальная уголовная юстиция
Короткий адрес: https://sciup.org/14116312
IDR: 14116312
Текст научной статьи Принудительные меры воспитательного воздействия в истории отечественного уголовного законодательства
Вопрос об индивидуальном подходе к уголовной ответственности несовершеннолетних поднимался еще в дореволюционном праве России. Однако решался он главным образом не с учетом их особого уголовно-правового статуса, отражающего специфику этой возрастной группы как самостоятельного субъекта общественных отношений, а исходя из способностей подростков ко «вменению». Отсюда, если несовершеннолетний возраст и учитывался уголовным законом при совершении преступлений, то, как правило, лишь в плане смягчения общеуголовной репрессии.
Тем не менее нельзя сказать, что досоветское уголовное законодательство вообще не предусматривало средств дифференциации уголовной ответственности несовершеннолетних. Сначала в Воинских Артикулах, затем в Уложении о наказаниях уголовных и исправительных 1845 года и далее предусматривались такие меры воздействия, которые не применялись к субъектам иных возрастных групп. Сюда, например, можно отнести помещение их в исправительные приюты, иные исправительно-воспитательные заведения, домашние исправитель- ные наказания и т. д.1 Но ввиду того, что в уголовном законодательстве того времени не прослеживалось четкой систематизации мер уголовно-правового воздействия, назначаемых за совершение преступлений, в том числе и наказаний, довольно сложно было определить их юридическую природу.
Большинство из мер воздействия, применяемых к подросткам, ученые причисляли к разновидностям наказания (так называемым за- меняющим наказаниям), остальные — к мерам общественного воздействия [4, с. 41; 10, с. 121].
Конечно, уголовное законодательство дореволюционного периода нельзя сравнивать по уровню, в том числе и законодательной техники, с современным. Тем не менее в нем все же нельзя выделить какие-либо специфические воспитательные меры уголовно-правового воздействия, альтернативные наказанию, рассчитанные на применение к данной категории лиц.
Помещение в исправительно-воспитательные учреждения и аналогичные им специфические отделения при тюрьмах, иные заведения, такие как арестные или смирительные дома по своей сути, содержанию и режиму, а также, как справедливо отмечали ученые тех времен, «пагубным последствиям пребывания в них», фактически ничем не отличалось от отбывания лишения свободы в тюрьмах [11, с. 518]. Поэтому направление туда несовершеннолетних преступников вполне обоснованно, на наш взгляд, рассматривалось как наказание.
Что касается положений о совершении преступлений несовершеннолетними, «не имеющими надлежащего о своих обязанностях разумения», которые в связи с этим не могли быть подвергнуты уголовному наказанию, то применение к ним мер в виде принудительного помещения под «строгий присмотр» родителей либо «благонадежных» родственников для «исправления и наставления» со значительной долей условности можно признать неким прообразом принудительных мер воспитательного воздействия, ныне предусмотренных УК [6, с. 5].
Однако, во-первых, следует учитывать, что речь в данном случае шла о лицах, которые по сути не признавались субъектами уголовной ответственности, а во-вторых, названные меры не имели черт уголовно-правового принуждения и не имели достаточно четкого выражения в законе, который не определял ни их содержания, ни границ применения, ни порядка реализации. К тому же государство не проявляло какого-либо интереса к тому, как они исполнялись [1, с. 70]. Иначе говоря, указанные меры не имели того уголовно-правового значения, которое им придается сегодня.
Несмотря на это, закрепление указанных выше положений на законодательном уровне само по себе уже можно признать значительным прогрессом в деле дифференциации уголовной ответственности несовершеннолетних и одним из первых шагов в развитии системы альтернативных наказанию средств уголовно-правового воздействия.
В период действия советского уголовного законодательства вопросам уголовной ответственности рассматриваемой категории лиц стало уделяться гораздо больше внимания. Это было обусловлено большим количеством беспризорных детей, особенно в послевоенное время, а также статусом государства, одним из приоритетных направлений которого стало решение социальных задач, обращение к личности, нравственности и воспитанию граждан в духе особой морали социалистического общежития.
С первых же дней советской власти уголовно-правовой доктриной была воспринята идея борьбы с преступностью несовершеннолетних посредством их воспитания. Декрет СНК от 14 января 1918 года «О Комиссиях для несовершеннолетних» сразу же упразднил суды и наказание в виде тюремного заключения для лиц, не достигших совершеннолетия. В соответствии с положениями данного нормативного акта несовершеннолетних преступников должны были либо освобождать от уголовной ответственности, либо направлять в специальные учреждения Народного комиссариата общественного призрения [9, с. 21]. Затем Декретом СНК от 4 марта 1920 года «О делах несовершеннолетних, обвиняемых в общественно опасных действиях» уголовное преследование в отношении них было отнесено к ведению комиссий о несовершеннолетних [9, с. 67].
Таким образом, до появления «Основных начал уголовного законодательства СССР и союзных республик» несовершеннолетние преступники фактически не привлекались к уголовной ответственности, а любое девиантное их поведение, в том числе имеющее и уголовноправовое значение, рассматривалось как отклонение от нормального развития личности. Вместо этого к ним применялись меры воздействия медико-педагогического характера. Но было и исключение из данного правила. Наиболее опасные несовершеннолетние преступники все же подвергались воздействию мер общеуголовной репрессии в случаях, когда комиссия приходила к выводу о невозможности их исправления медико-педагогическими средствами.
Безусловно, названные меры нельзя признать уголовно-правовыми по своему характеру, поскольку законодатель выводил их применение за рамки уголовной юрисдикции [7, с. 99]. Однако сама идея использования альтернативных наказанию средств воздействия на несовершеннолетних, совершающих преступления, несомненно, заслуживает одобрения. Отдельный интерес представляет перечень мер медико-педа- гогического характера, которые по содержанию довольно близки с некоторыми принудительными мерами воспитательного воздействия, закрепленными в современном уголовном законе [5, с. 48]. Он раскрывался в «Инструкции комиссиям по делам несовершеннолетних 1920 г.».
В соответствии с указанным нормативным актом в этот перечень включались: а) «беседа, разъяснение, замечание воспитателя»; б) «внушение и оставление на свободе под присмотром родителей, родственников и обследователей»; в) «определение на ту или иную работу»; г) «помещение в школу»; д) «отправка на родину»; е) «помещение в детский дом или в одну из лечебно-воспитательных колоний и учреждений»; ж) «помещение в специальные изоляционные отделения психиатрических лечебниц»; з) «передача несовершеннолетних вместе с делом в народный суд в случае признания недостаточными указанных мер: при упорных рецидивах, систематических побегах из детских домов, при явной опасности для окружающих оставления несовершеннолетнего на свободе» [9, с. 75—76].
Данный перечень отличался отсутствием признаков четкой системы, классификации медико-воспитательных мер. В него вперемешку были включены различные по своей природе средства принуждения, и меры медицинского характера, и воспитательного воздействия, и репрессивной, карательной направленности, и такие средства, которые по сути были лишены воспитательного значения. Но некоторые из них оказались довольно результативными на практике и тем самым доказали свое право на существование в последующих нормативных актах уголовного законодательства.
С принятием «Основных начал уголовного законодательства» уголовная политика в отношении преступников, не достигших совершеннолетия, существенно изменилась. Возрастная категория лиц, совершивших преступление до достижения ими восемнадцати лет, была разделена на две группы: малолетних и несовершеннолетних, к которым применялись разные средства: меры медико-педагогического характера и меры социальной защиты судебно-исправительного характера соответственно. Первые могли назначаться несовершеннолетним лишь в качестве исключения по усмотрению суда [4, с. 67].
К «мерам социальной защиты» были отнесены: а) «меры судебно-исправительного характера»; б) «меры медицинского характера»; в) «меры медико-педагогического характера». Перечень последних существенно изменился по сравнению с предыдущим, описанным ранее. В законе от него остались лишь: а) «отдача несовершеннолетних на попечение родителям, родственникам и другим лицам, учреждениям и организациям»; б) «помещение в специальное заведение» [9, с. 204—207].
Таким образом, нельзя сказать, что принятие Основных начал государством стало существенным прогрессом в деле дифференциации уголовной ответственности несовершеннолетних. Однако теперь медико-педагогические меры хотя бы закреплялись в самом уголовном законодательстве, что позволяло их считать собственно уголовно-правовыми средствами, и назначались судами.
В 1935 году ЦИК и СНК СССР было принято постановление «О мерах борьбы с преступностью несовершеннолетних», которое отменило действие положений, предусматривавших применение к несовершеннолетним мер медиковоспитательного воздействия, что, видимо, было обусловлено недостаточно высокой их эффективностью. К данной категории лиц, начиная с двенадцати лет, стали применяться все наказания, которые были предусмотрены уголовным законодательством и назначались в общем порядке для всех виновных в совершении преступлений [9, с. 381—382].
Поиск пути противодействия подростковой преступности вновь привел государство к политике применения к несовершеннолетним преступникам мер общеуголовной репрессии. Данное нововведение просуществовало до принятия «Основ уголовного законодательства СССР и союзных республик» 1958 года и вступления в силу «Уголовного кодекса РСФСР 1960 г.».
С этого момента, можно сказать, в УК наконец появилась более-менее выраженная система самостоятельных мер уголовно-правового характера, отличных от наказания, предназначавшихся для применения к несовершеннолетним преступникам. Это были принудительные меры воспитательного характера, которые могли применяться вместо наказания и при этом были лишены карательной направленности.
В их число входили: 1) «возложение обязанности публично или в иной форме, определенной судом, принести извинения потерпевшему»; 2) «объявление выговора или строгого выговора»; 3) «предостережение»; 4) «возложение на несовершеннолетнего, достигшего пятнадцатилетнего возраста, обязанности возместить причиненный ущерб, если несовершеннолетний имеет собственный заработок и сумма ущерба не превышает пятидесяти рублей, или возложение обязанности своим трудом устранить причиненный материальный ущерб, не превышающий пятидесяти рублей; при причинении ущерба свыше пятидесяти рублей возмещение ущерба производится в порядке гражданского судопроизводства»; 5) «передача несовершеннолетнего под строгий надзор родителям или иным лицам, их заменяющим»; 6) «передача несовершеннолетнего под наблюдение трудовому коллективу, общественной организации с их согласия, а также отдельным гражданам по их просьбе». По усмотрению суда несовершеннолетнему мог быть назначен общественный воспитатель — по положению «об общественных воспитателях несовершеннолетних»; 7) «помещение несовершеннолетнего в специальное учебно-воспитательное или лечебно-воспитательное заведение».
В данной законодательной инициативе, на наш взгляд, можно выделить целый ряд положительных моментов. Во-первых, довольно интересным и содержательным представляется сам перечень принудительных мер воспитательного характера. Некоторые из них по своему воспитательному потенциалу заслуживают, по нашему мнению, отдельного внимания современного законодателя. Во-вторых, более четко была определена их юридическая природа. Это были альтернативные наказанию меры уголовно-правового характера, которым придавалось самостоятельное значение и отводилось отдельное место в уголовном законодательстве. В-третьих, в законе был четко определен порядок их применения и т. д.
Тем не менее были в нем и существенные недостатки. Некоторые меры воспитательного характера по сути являлись мерами общественного воздействия (передача несовершеннолетнего под надзор родителей, под наблюдение трудового коллектива и т. д.) и, на наш взгляд, не имели необходимого превентивного значения. Другие по своей природе больше относились к сфере административно-правового регулирования общественных отношений [2, с. 103]. Кроме того, с позиции современного представления о правах и свободах человека и гражданина и допустимости их ограничения, многие положения прежнего уголовного закона неприемлемы для действующего УК.
Уголовный кодекс 1996 года значительно изменил институт принудительных мер воспитательного характера. Законодатель подошел к проблеме его регулирования с учетом признаваемых во всем мире требований к обеспечению прав, свобод и законных интересов несовершеннолетних как особой категории субъектов социальных и правовых отношений. Поэтому названные средства уголовно-правового воздействия рассматриваются в нем прежде всего как атрибут специфики их уголовной ответственности, однако без учета особенностей их юридической природы. Отсюда и место, которое законодатель определил им в системе Общей части УК. Они находятся в Разделе V «Уголовная ответственность несовершеннолетних», Главе 14 «Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних».
Список литературы Принудительные меры воспитательного воздействия в истории отечественного уголовного законодательства
- Богдановский А. Молодые преступники. Вопрос уголовного права и уголовной политики / А. Богдановский. - СПб., 1871.
- Бурлака С. А. Гносеологические корни принудительных мер воспитательного воздействия / С. А. Бурлака // Проблемы правоохранительной деятельности. - 2014. - № 2. - С. 101-106.
- Воинские Артикулы 1715 г. // Российское законодательство Х-ХХ веков. - М., 1988. - Т. 4.
- Кистяковский А. Ф. Молодые преступники и учреждения для их исправления / А. Ф. Кистяковский. - Киев, 1878.
- Магомедова А. М. Развитие принудительных мер воспитательного воздействия в уголовном праве: дис.. канд. юрид. наук / А. М. Магомедова; Дагестанский гос. ун-т. - Махачкала, 2006.
- Медведев Е. В. Понятие и виды принудительных мер воспитательного воздействия / Е. В. Медведев // Уголовноисполнительная система: право, экономика, управление. - 2009. - № 4. - С. 4-7.
- Медведев Е. В. Принудительные меры воспитательного воздействия в системе средств реализации уголовной ответственности / Е. В. Медведев // Евразийский юридический журн. - 2009. - № 11(18). - С. 98-101.
- Савина Т. А. Сравнительная характеристика принудительных мер воспитательного воздействия по уголовному закону России и Германии / Т. А. Савина // Вектор науки Тольяттинского гос. ун-та. - 2013. - № 1(23). - С. 231-235.
- Сборник документов по истории уголовного законодательства СССР и РСФСР. 1917-1952 гг. - М., 1953.
- Таганцев Н. С. Исследования об ответственности малолетних преступников по русскому праву и Проект законоположений об этом вопросе / Н. С. Таганцев. - СПб., 1871.
- Фельдштейн Г. С. Главные течения в истории науки уголовного права в России / Г. С. Фельдштейн. - М., 2003.