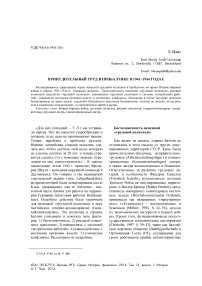Принудительный труд в Прибалтике в 1941–1944 годах
Автор: Плат Тильман
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Российская история
Статья в выпуске: 1 т.13, 2014 года.
Бесплатный доступ
Рассматриваются характерные черты немецкой трудовой политики в Прибалтике во время Второй мировой войны в период 1941–1944 гг. Таковыми являлись – бесчеловечность немецкой «трудовой политики», расовый компонент идеологии «трудовой политики», взаимосвязь «трудовой политики» и системы «истребления работой», управление местными органами власти и этнические конфликты. Описанная в статье трудовая политика балансировала на грани между «защитой» балтийского населения большинства, «охотой на людей», когда речь шла о славянских меньшинствах, и уничтожением евреев и цыган.
Вторая мировая война, исправительно-трудовой лагерь, трудовая политика, расовая идеология, генерал-комиссариат, концентрационный лагерь
Короткий адрес: https://sciup.org/147218978
IDR: 147218978 | УДК: 94(4)61941/459
Текст научной статьи Принудительный труд в Прибалтике в 1941–1944 годах
«Для них (латышей. – Т. П .) мы устранили евреев. Что же касается старообрядцев и поляков, то их цели не противоречат нашим. Теперь перейдем к проблеме русских. Именно латвийская сторона пыталась сделать все, чтобы достичь этой цели, которую не удалось достичь за 20 лет, и теперь стремится сделать это с помощью немцев, переложив на них ответственность» 1. К такому заключению летом 1942 г. приходит Фредерик Швунг – немецкий окружной комиссар в Даугавпилсе. Он говорил о так называемой «латгальской акции» (нем. Lettgallenaktion), во время которой были депортированы около 8 тыс. гражданских лиц из Латгалии – восточной части Латвии для работы на территории Германии (категория рабочих Reichsein-satz). Подобное действие было типичным для немецкой «трудовой политики» в трех балтийских генерал-комиссариатах (Gene-ralkommissariate). Эта политика в странах Балтии учитывала и сочетала пять факторов: 1) бесчеловечность; 2) расовый компонент идеологии; 3) взаимосвязь с системой «истребления работой»; 4) взаимодействие с местными органами власти; 5) этнические конфликты. Рассмотрим их подробнее.
Бесчеловечность немецкой «трудовой политики»
Как видно из цитаты, страны Балтии не отличались в этом смысле от других оккупированных территорий СССР. Здесь были принудительно-трудовые, исправительнотрудовые (Arbeitserziehungslager) и концентрационные (Konzentrationslager) лагеря, а также лагеря военнопленных и беженцев. Ответственные за развитие трудовых лагерей, в особенности Фридрих Еккельн (Friedrich Jeckeln), руководитель полиции Третьего Рейха на оккупированных территориях, и Валтер Бремер (Walter Bremer), представитель имперского комиссариата восточных земель (Reichskommissariat Ostland), принимали так называемых «эвакуированных» («Evarussen») – военнопленных и беженцев [Müller, 1994. S. 42–76], исходя из экономических интересов в период войны. Кроме того, функционировали полуго-сударственные экономические предприятия [Eichholtz, 1997. S. 39–43], такие как Балтийское нефтяное общество (Baltölgesellschaft) и Организация Тодта (OT), создававшие для своих работников крайне неблагоприятные условия в исправительно-трудовых лагерях и на работе. Об этом говорится в докладе о лагере Организации Тодта под Вильнюсом: «Лагерь Организации Tодта, Warena 1, на котором трудится около 450 местных рабочих, не поддается описанию… Хлорную известь для туалетов не получить… люди спят на древесной стружке, нет ни одеял, ни шкафов, в некоторых домах нет окон» 2. Такая же ситуация была и в лагерях Балтийского нефтяного общества 3. Условия труда для гражданского населения за пределами лагеря постоянно ухудшались. Примерами такого ужесточения «трудовой практики» для всего населения в дополнение к постоянно растущей рабочей неделе, доходившей иногда до 60 часов в неделю 4, являлось увеличение обязательств по обслуживанию немецкого населения, проведению окопных работ, сбору урожая, а также дополнительному принудительному труду на службе Вооруженных Сил, Организации Тодта 5.
Тем не менее немецкие службы занятости, учитывая полиэтничный состав населения стран Балтии и пытаясь мотивировать его к поддержке немцев, вводили некоторые послабления, что нашло отражение в таких терминах, как «пощада» или даже «льготный режим» 6. Обоснованием такого тактического подхода являлось присутствовавшее у немцев мнение о сильной антисоветской позиции большей части прибалтийского населения. Считалось, что на начальном этапе и в конце оккупации большинство как политической элиты, так и простых людей являлось потенциальными «коллаборационистами» 7.
Одновременно с ухудшением условий труда немцы начали проводить вербовку все более жесткими методами. Можно сказать, что вслед за изменением общей численности населения наблюдалось и изменение стратегических действий немецкой службы занятости. В начале оккупации обязанность работать предполагалась для всего трудоспособного населения 8, однако административные органы не могли это реализовать 9. В такой ситуации управление переходило к более жестким методам принуждения, чтобы осуществлять контроль, по крайней мере, части населения. В этом контексте наметившиеся с 1943 г. изменения были определенной попыткой контроля населения [Myllyniemi, 1973. S. 231], в связи с чем звучали призывы к труду в адрес отдельных рабочих групп, например, студентов и государственных служащих 10. Так называемый метод «вычесывания» («Auskämmen»), проводившийся на предприятиях, представлял собой весьма популярный инструмент, регулирующий количество людей, выполнявших работы, и позволяющий рационализировать различные аспекты «трудовой политики» 11. Кроме того, в 1942 г. полицией были проведены неизбирательные, целевые рейды против гражданского населения, которые характеризовались особой жестокостью и даже в отчетах полицейских служб фигурировали как «охота на людей» (Menschenjagden) 12.
Учитывая выбор методов вербовки, можно сказать, что данный импульс привел к радикализации полиции, ведущих органов, вооруженных сил, а также Восточного общества (Ostgesellschaften) и Oрганизации Tодта. Здесь рабочих рассматривали только как «человеческий ресурс» («Sparstoff Mensch») [Kroener, 1999. S. 109], чтобы с помощью любых средств реализовать принцип «срочность, вызванная войной, оправдывает любые средства» 13. В целом, в начале 1945 г. в Германии насчитывалось около 130 000 работников из Прибалтики [Kangeris, 2010. S. 43–62].
Расовый компонент идеологии «рабочей политики»
Ф. Швунг в приведенной выше цитате, судя по всему, подчеркивал наличие связей между вербовкой и критериями этнической группы, выступавшей в качестве потенциальной жертвы. Для Германии, как известно, практика нацистской трудовой политики в значительной степени опиралась на принципы расистской иерархии [Herbert,
1999. S. 96–104, 244–250]. В этом отношении страны Балтии не были исключением. И все же этот регион, как показывает определение статуса «восточного рабочего» (Ostarbeiterstatus) [Karner, 2004. S. 90, 118; Polian, 2007. S. 62], был в некотором смысле особым. Рабочие из стран Балтии, в том числе проживающие там славянские меньшинства, как правило, не считались «восточными рабочими». Но последние в странах Балтии, тем не менее, были 14. Могло случиться так, что в одном месте работали, например, двое русских, один из которых именовался «восточным рабочим», а другой нет. В этой связи следует отметить, что в значительной степени был непонятен статус освобожденных украинских военнопленных 15. На нормативном уровне прослеживалось разделение славянских и балтийских работников. Однако в 1943 г. различия между коренными славянами (русскими, украинцами), заключенными других национальностей, а также «эвакуированными» («Evarussen») были сняты, что вызвало замешательство местной администрации 16.
Независимо от изменений нормативной документации, практика значительно отличалась от теории. «Трудоемкость», определяемая для коренных славян, во многих случаях была намного тяжелее, чем для их эстонских, латвийских и литовских соседей, на что указывает количество жалоб 17. Эта дискриминация, осуществляемая на практике, также была оружием инспекции Ост-ланд: «Наибольший процент безработных составляют поляки, так как они должны были отдать свою работу литовцам» 18. Под давлением службы Фрица Заукеля (Fritz Sauckel) они были отправлены в резерв для работы на территории Германии (т. е. были вписаны в категорию «Reichseinsatz»). Действия Ф. Заукеля распространялись в особенности на русских и поляков. Что же касается эстонцев, латышей и литовцев, то они, относясь к категории «Reichseinsatz», были подчинены Имперской службе труда (Reichsarbeitsdienst). Первоначальная цель состояла не столько в организации трудовой политики, сколько в расовой идеологии, которая преследовала более долгосрочные цели германизации региона 19. Имперская служба труда потеряла во время оккупации свой изначально добровольный характер, а также стала принимать более активное участие в решении конкретных проблем военной экономики. Тем не менее, по сравнению с ведомством Ф. Заукеля, для нее характерен относительно безобидный вариант принудительного труда [Siliņš, 2001. P. 72–96; Kažociņš. 1998].
Другие славянские работники и до, и после отмены «постановлений о восточных рабочих» (Ostarbeiterbestimmungen) находились в невыгодном положении в странах Балтии. Например, даже лечение русских военнопленных по сравнению с украинскими, несмотря на многочисленные нормативные положения, на практике осуществлялось гораздо хуже 20. Невзирая на то, что упомянутые дискриминационные постановления были отменены, нормативные предписания и реальная практика из-за появления большого количества «эвакуированных» продолжали отличаться. В результате увеличения численности этой категории (немецкой гражданской администрацией было размещено около 500 тыс. русских, бежавших в Прибалтику 21 [Polian, 2010. S. 81; Pohl, 2008. S. 327]) жизнь в лагерях беженцев стала очень тяжелой. Таким образом, в отношении русских de facto сложились менее благоприятные условия содержания. Иногда «эвакуированные» располагались на открытом воздухе и должны были довольствоваться 300 г. хлеба в день 22.
Эти примеры иллюстрируют тот факт, что, несмотря на формальное равенство, реальное содержание «трудовой политики» в странах Балтии складывалась по-разному для славянских и балтийских рабочих. Менее серьезное, но оправданное в контексте расовой идеологии значение имело неодинаковое развитие «трудовой политики» во всех трех странах Балтии. С самого начала, в соответствии с расистскими критериями, литовцы оценивались как низший класс, вследствие чего немецкая «трудовая политика» нанесла значительно больший ущерб коренному населению в Литве, чем в Эстонии и
Латвии 23. В целом, страны Балтии, если основываться на качественных критериях «трудовой политики», делятся на два различных региона. По сравнению с ситуацией в Эстонии гражданские лица в Латгалии, восточной Латвии и Литве вынуждены были жить в более суровых условиях.
Взаимосвязь «трудовой политики» с системой «истребления работой»
Как следует из слов Ф. Швунга об уничтожении евреев, «трудовая политика» была непосредственно связана с Холокостом 24. В отличие от трудовой повинности славян трудовая повинность евреев в странах Балтии безусловно являлась способом их уничтожения 25 [Herbert, 1991. S. 384–426]. Из примерно 280 тыс. евреев, находившихся здесь, выжили немногим более 10 тыс. чел. [Arad, 2009. Р. 147–150; Stranga, 2008. Р. 177, 273.f, 529]. Хотя интерес к еврейскому принудительному труду был обусловлен военной экономикой, с декабря 1941 г. эти экономические интересы зачастую не принимались во внимание [Scheffler, 1999. S. 262]. Гетто существовали в Риге [Angrick, Klein, 2006. S. 276–297, 323–337, 346–360], Лиепае, Даугавпилсе, Шяуляе, Ковно и Вильнюсе и до 1943 г., но после назначения ответственным за еврейский принудительный труд в прибалтийских концлагерях (Рига, Кайзервальд, Вайвара, Ковно) Эдварда Бахла [Der Ort des Terrors, 2008; Streim, 1989] появился концлагерь Вайвара в Эстонии, в котором была чрезвычайно высокая смертность [Weiss-Wendt, 2009. P. 201–222]. Все цифры потерь ясно говорят о примате уничтожения, так что можно констатировать – показатели смертности были в те времена самыми высокими. Это относится и к фазе лета – осени 1941 г. [Birn, 2008. S. 140–142].
Особой была судьба цыганского населения в Прибалтике. С одной стороны, они пострадали как и другие жертвы нацизма [Holler, 2009; Wippermann, 1992]. В Эстонии из 741 цыгана, проживавшего здесь в 1941 г., не выжил никто. Прежде чем убить, многих из них направляли в трудовой концлагерь Лаитце работать на нужды немецкой экономики [Kuusik, 2005. S. 142–144]. Из 1 500 цы- ган в Литве было расстреляно около 500. Остальные были заключены в тюрьму либо временно, либо на долгий срок. Некоторые были депортированы в Германию или Францию [Toleikis, 2005. Р. 275]. Что касается Латвии, где проживала большая часть цыган, населявших Прибалтику (3 800 чел.), то примерно половина из них была расстреляна [Bleiere, 2008. Р. 274]. Для оставшихся в живых отсутствовали какие-либо специальные положения о «трудоемкости». Ситуация оставалась неясной. В условиях такой неопределенной нормативной базы в «исправительно-трудовых» лагерях, например в Пане-вижисе, находившимся в Литве, наблюдалась высокая смертность заключенных вследствие болезней [Toleikis, 2005. Р. 272] и плохого содержания 26.
Взаимодействие с местными органами власти
Жалоба Ф. Швунга о попытке влияния латвийской стороны на немецкую политику оккупации указывает на то, что немецкие войска имели ограниченные политические ресурсы. В этой связи возникает вопрос о формах сотрудничества (коллаборационизма) и сопротивления среди местного населения [Maripuu, 2004. S. 403–419; Reichelt, 2002. S. 110–124; Bohn, 2004. S. 33–44]. Из-за нехватки собственного немецкого персонала допускалось участие в управлении «местных органов» [Kangeris, 1994. S. 165– 190; Paavle, 2006. Р. 539–568; Ezergailis, 2004]. Номинально у них не было широкой компетенции: «Надзор за правительством должен быть проведен таким образом, чтобы, с одной стороны, у них было определенное чувство независимости и личной ответственности, но с другой стороны, чтобы они не могли ничего сделать, что противоречило бы интересам Германии. Поэтому руководство должно находиться полностью в руках немцев» 27. Однако этот принцип был скорее желаемым, чем действительным. На практике у прибалтов оставался некоторый простор для «собственного правительства», поскольку немецкой администрации и полиции было недостаточно, чтобы выполнить планы Германии [Dieckmann, 2002. S. 100], что временами позволяло местным властям формировать свои собственные политические цели.
Этнические конфликты
Как показывает цитата, расовый компонент идеологии «трудовой политики» был импортирован из Германии, а не развивался в Прибалтике независимо. Вместо этого обнаружилось, что местному этническому большинству со стороны немцев предъявлено обвинение в дискриминации национальных меньшинств [Brüggemann, 2007. S. 139– 165; McQueen, 2006. Р. 164–173]. Не случайно глава политического отдела генерал-комиссариата в Риге В. Бурмейст оценивал влияние местных органов следующим образом: «Эстонцы, латыши и литовцы за время существования своего государства всегда стремились ассимилировать представителей отдельных этнических групп. Многочисленные наблюдения показывают, что местные органы и сегодня терроризируют членов этнических групп в политической и культурнополитической сфере, а также в трудовой политике» 28.
Можно привести некоторые примеры: в Эстонии в адрес немецкой администрации неоднократно поступали жалобы на терроризирование украинских «восточных рабочих» в эстонской сельской местности 29. Еще хуже обстояло дело со здравоохранением славян. Эстонские полицейские во время пополнения литовцами рядов «Reichseinsatz» несколько раз привлекали также представителей славянских народов. В процессе акции Ф. Заукеля в 1942 г., а также антипартизан-ских действий 1943 г. латвийские и литовские полицейские беспощадно расправлялись с представителями славянских меньшинств, а также вписывали в ряды «Reichseinsatz» или оставляли в трудовых концлагерях отдельных произвольно выбранных людей славянского происхождения. Действия латвийских полицейских следующим образом характеризуются в докладе от лета 1942 г. немецкого комиссара Латгалии: «До последнего города, быстрее, чем телеграф и телефон, проник лозунг: “Все русские, направленные в Рейх, сосланы и расстреляны. Это поддержано некоторыми латвийскими по- лицейскими… почти все они имеют в крови черты садизма…”» 30.
Подобные антиславянские настроения прослеживались и в высших органах местной администрации. Выполнение немецких требований по организации принудительного труда они использовали для достижения этнической гомогенизации в своей собственной стране. В отчете, подготовленном для первого латвийского президента и посвященном акциям Ф. Заукеля и деятельности оккупационной администрации генерала О. Данкерса, говорилось следующее: «Он (Данкерс. – Т. П.), не будучи немцем в полном смысле, принял к сведению предложение отозвать необходимую рабочую силу из Латгалии. Это было разумно, поскольку иностранные элементы присутствовали в большом количестве…» [Kangeris, 1990]. В Литве, где спрос на труд был особенно высоким, литовскими властями были введены принудительные меры, направленные прежде всего против поляков и преследовавшие цель их отправки в Германию [Zizas, 2005. Р. 351; Dieckmann, 2006. S. 136.f].
Таким образом, характерная черта трудовой политики в странах Балтии заключалась в следующем: по инициативе немецкой стороны процесс радикализации частичной мобилизации замедлялся местной администрацией, направлявшей репрессии против славянских рабочих. Местная администрация, по крайней мере с 1943 г., больше не имела доступа к принятию решений, связанных с жизнью или смертью, в особенности евреев и цыган. Это право концентрировалось исключительно в руках немецких оккупационных властей. Результатом этого стала описанная выше трудовая политика, балансировавшая между «защитой» балтийского этнического большинства, «охотой на людей» (когда речь шла о славянских меньшинствах) и уничтожением евреев и цыган.
Список литературы Принудительный труд в Прибалтике в 1941–1944 годах
- Angrick A., Klein P. Die «Endlösung» in Riga. Ausbeutung und Vernichtung 1941-1944, Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 2006. 520 S.
- Arad Y. The Holocaust in the Soviet Union. Jerusalem: Yad Vashem; Lincoln: University of Nebraska Press, 2009. 700 р.
- Birn R. B. Konzentrationslager Vaivara // Geschichte der nationalsozialistischen Konzentrationslager. München, 2008. Bd. 8. S. 127-183.
- Bleiere D. V. Latvija Otrajā pasaules karā (1939-1945). Rīga: Jumava, 2008. 356 p.
- Bohn R. Kollaboration und deutsche Mobilisierungsbemühungen im RK Ostland: Grundsätzliche Überlegungen // Collaboration and Resistance during the Holocaust. 2004. S. 33-44.
- Brüggemann K. Estonia and its Escape from the East: the Relevance of the Past in Russian-Estonian Relations // Representations on the Margins of Europe. Frankfurt; N. Y., 2007. S. 139-165.
- Der Ort des Terrors. Geschichte der nationalsozialistischen Konzentrationslager / Hrsg. W. Benz, B. Distel. München: C. H. Beck, 2008. Bd. 8: Riga-Kaiserwald, Warschau, Vaivara, Kauen (Kaunas), Plaszow, Kulmhof / Chelmno, Belzec, Sobibor, Treblinka. 468 S.
- Dieckmann C. Die Zivilverwaltung in Litauen // Täter im Vernichtungskrieg. Der Überfall auf die Sowjetunion und der Völkermord an den Juden. Berlin, 2002. S. 96-109.
- Dieckmann D. Kollaboration? Litauische Nationsbildung und deutsche Besatzungsherrschaft im Zweiten Weltkrieg // «Kollaboration» in Nordosteuropa. Erscheinungsformen und Deutungen im 20. Jahrhundert. Wiesbaden, 2006. S. 128-139.
- Eichholtz D. Institutionen und Praxis der deutschen Wirtschaftspolitik im NS-besetzten Europa // Die «Neuordnun» Europas. NS-Wirtschaftspolitik in den besetzten Gebieten. Berlin, 1997. S. 29-62.
- Ezergailis A. Collaboration in German Occupied Latvia: Offerred and Rejected // Latvijas Vēsturnieku Komisijas Raksti. 2004. Bd. 11. S. 119-140.
- Herbert U. Arbeit und Vernichtung. Ökonomisches Interesse und Primat der «Weltanschauung» im Nationalsozialismus // Euro-pa und der «Reichseinsatz». Essen, 1991. S. 384-426.
- Herbert U. Fremdarbeiter. Politik und Praxis des Ausländer-Einsatzes in der Kriegswirtschaft des Dritten Reiches. Berlin; Bonn: Dietz J. H. W. Nachfolger, 1999. 589 S.
- Holler M. Der nationalsozialistische Völkermord an den Roma in der besetzten Sowjetunion (1941-1944). Gutachten für das Dokumentations-und Kulturzentrum Deutscher Sinti und Roma. Heidelberg: Dokumentations-und Kulturzentrum Deutsche Sinti und Roma, 2009. 142 S.
- Kangeris K. Baltische Zwangsarbeiter im Dritten Reich // Hitlers Sklaven - Stalins «Verräter». Aspekte der politisch-administrativen Repressionen an Zwangsarbeitern und Kriegsgefangenen; Eine Zwischenbilanz. Innsbruck, 2010. Bd. 14. S. 43-62.
- Kangeris K. Kollaboration vor der Kollaboration? Die baltischen Emigranten und ihre «Befreiungskomitees» in Deutschland 1940/1941 // Europa unterm Hakenkreuz. Okkupation und Kollaboration. Berlin, 1994. S. 165-190.
- Kangeris K. Nodeva reiham. Latvijas ģenerālapgabala iedzīvotāji darbos Lielvācijā // Latvijas zinātņu akadēmijas vestis. 1990. № 12. P. 34-47.
- Karner S. Zwangsarbeit in der Land-und Forstwirtschaft auf dem Gebiet Österreichs 1939 bis 1945. Wien; München: Oldenbourg Verlag, 2004. 615 S.
- Kažociņš I. Latvieši vācu karaspēka izpalīgos // Latvijas arhīvi. 1998. № 1. P. 65-70.
- Kroener B. R. Soldaten der Arbeit: Menschenpotential und Menschenmangel in Wehrmacht und Kriegswirtschaft // Krieg und Wirtschaft. Berlin, 1999. S. 109-127.
- Kuusik A. Die Deutsche Vernichtungspolitik in Estland 1941-1944 // Vom Hitler-Stalin-Pakt bis zu Stalins Tod. (Estland in 1939-1953). Hamburg, 2005. S. 130-151.
- Maripuu M. Kollaboration und Widerstand in Estland 1940-1944 // Collaboration and Resistance during the Holocaust. 2004. S. 403-419.
- McQueen M. Collaboration as an Element in the Polish-Lithuanian Struggle over Vilnius // «Kollaboration» in Nordosteuropa. Erscheinungsformen und Deutungen im 20. Jahrhundert. Wiesbaden, 2006. P. 164-173.
- Myllyniemi S. Die Neuordnung der baltischen Länder 1941-1944: zum nationalsozialistischen Inhalt der deutschen Besatzungspolitik. Helsinki: Th.-Hist., 1973. 308 S.
- Müller R.-D. Es begann am Kuban. Flucht-und Deportationsbewegungen in Osteuropa während des Rückzugs der deutschen Wehrmacht 1943/44 // Flucht und Vertreibung. Zwischen Aufrechnung und Verdrängung. Wien, 1994. S. 42-76.
- Paavle I. Estonian Self-Administration in 1941-1944 // Estonia 1940-1945: reports of the Estonian International Commission for the Investigation of Crimes Against Humanity. Tallinn, 2006. P. 539-568.
- Pohl D. Die Herrschaft der Wehrmacht: Deutsche Militärbesatzung und einheimische Bevölkerung in der Sowjetunion 1941-1944. Frankfurt am Main: Fischer Taschenbuch Verlag, 2008. 399 S.
- Polian P. Die Erinnerung an die Deportationen während der deutschen Besatzung in der Sowjetunion // Zwangsarbeit im Europa des 20. Jahrhunderts. Essen, 2007. S. 59-74.
- Polian P. Die Rekrutierung der Zwangsarbeiter in der Sowjetunion // Zwangsarbeiterforschung in Deutschland. Das Beispiel Bonn im Vergleich und im Kontext neuerer Untersuchungen. Essen, 2010. Bd. 4. S. 63-86.
- Reichelt K. Kollaboration und Holocaust in Lettland 1941-1945 // Täter im Vernichtungskrieg. Berlin; München, 2002. S. 110-124.
- Siliņš L. Nacistiskās Vācijas okupanti: mūsu tautas lielās cerības un rūgtā vilšanās. Rīga: Latvijas vēsture Fonds, 2001. 307 p.
- Scheffler W. Zur Rolle der Zivilverwaltung bei der Durchführung der «Endlösung der Judenfrage» im Reichskommissariat Ostland // Täter und Gehilfen des Endlösungswahns. Hamburg, 1999. S. 242-272.
- Stranga A. Ebreji Baltijā: no ienākšanas pirmsākumiem līdz holokaustam: 14. gadsimts - 1945. gads. Rīga: Latvijas vēsture Fonds, 2008. 592 p.
- Streim A. Konzentrationslager auf dem Gebiet der Sowjetunion // Dachauer Hefte. 1989. Bd. 5. S. 174-187.
- Toleikis V. Lithuanian Roma during the Years of Nazi Occupation // Karo belaisviu ir civiliu gyventoju žudynės Lietuvoje. Vilnius, 2005. P. 267-288.
- Weiss-Wendt A. Murder without Hatred. Estonians and the Holocaust. Syracuse: Syracuse Univ. Press, 2009. 476 p.
- Wippermann W. Nur eine Fußnote? Die Verfolgung der sowjetischen Roma. Historiographie, Motive, Verlauf // Gegen das Vergessen: Der Vernichtungskrieg gegen die Sowjetunion 1941-1945. Frankfurt am Main, 1992. S. 75-90.
- Zizas R. Persecution of Non-Jewish Citizens of Lithuania, Murder of Civilian Population // Karo belaisviu ir civiliu gyventoju žudynės Lietuvoje. 1941-1944. Vilnius, 2005. P. 289-383.