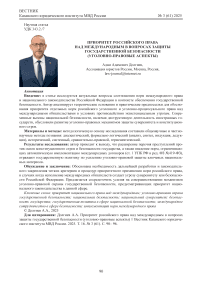Приоритет российского права над международным в вопросах защиты государственной безопасности (уголовно-правовые аспекты)
Автор: Долгиев А.А.
Журнал: Вестник Казанского юридического института МВД России @vestnik-kui-mvd
Рубрика: Уголовно-правовые науки
Статья в выпуске: 3 (61) т.16, 2025 года.
Бесплатный доступ
В статье исследуются актуальные вопросы соотношения норм международного права и национального законодательства Российской Федерации в контексте обеспечения государственной безопасности. Автор анализирует теоретические основания и практические предпосылки для обоснования приоритета отдельных норм российского уголовного и уголовно-процессуального права над международными обязательствами в условиях противодействия экзистенциальным угрозам. Современные вызовы национальной безопасности, включая деструктивную деятельность иностранных государств, обусловили развитие уголовно-правовых механизмов защиты суверенитета и конституционного строя. Материалы и методы: методологическую основу исследования составили общенаучные и частнонаучные методы познания: диалектический, формально-логический (анализ, синтез, индукция, дедукция), исторический, системный, сравнительно-правовой, герменевтический. Результаты исследования: автор приходит к выводу, что расширение перечня преступлений против основ конституционного строя и безопасности государства, а также введение норм, ограничивающих автоматическую имплементацию международных договоров (ст. 1 УПК РФ в ред. ФЗ №419-ФЗ), отражают государственную политику по усилению уголовно-правовой защиты ключевых национальных интересов. Обсуждение и заключение: Обоснована необходимость дальнейшей разработки и законодательного закрепления четких критериев и процедур приоритетного применения норм российского права, в случаях когда исполнение международных обязательств создает угрозу суверенитету или безопасности Российской Федерации. Предлагается сосредоточить усилия на совершенствовании механизмов уголовно-правовой охраны государственной безопасности, предусматривающих приоритет национального законодательства в данной сфере.
Приоритет национального права над международным, уголовно-правовая охрана государственной безопасности, национальная безопасность, национальный суверенитет, безопасность государства, государственная политика в сфере национальной безопасности, международное сотрудничество в сфере безопасности, имплементация норм международного права
Короткий адрес: https://sciup.org/142245705
IDR: 142245705 | УДК: 343.2./7 | DOI: 10.37973/2227-1171-2025-16-3-90-96
Текст научной статьи Приоритет российского права над международным в вопросах защиты государственной безопасности (уголовно-правовые аспекты)
Современные геополитические реалии и развитие международных отношений ставят перед государствами сложные задачи по обеспечению национального суверенитета и государственной безопасности. Участие Российской Федерации в международных конвенциях и соглашениях предполагает соблюдение норм международного права, что закреплено в статье 15 Конституции Российской Федерации. Однако в условиях возникновения новых угроз, включая деструктивную деятельность иностранных государств и использование международно-правовых инструментов в ущерб интересам Российской Федерации, актуализируется вопрос о пределах действия международных норм и обоснованности приоритета национального законодательства в сферах, затрагивающих основы безопасности государства [1].
Ключевой проблемой, исследуемой в статье, является противоречие между международными обязательствами Российской Федерации и необходимостью эффективной защиты национального суверенитета и безопасности средствами национального права, прежде всего уголовного и уголовно-процессуального. Целью исследования является анализ теоретических оснований и разработка предложений по закреплению приоритета норм российского права в области уголовно-правовой защиты государственной безопасности при возникновении коллизий с международными обязательствами. Научная новизна заключается в обосновании системного подхода к ограничению имплементации норм международного права в уголовное и уголовно-процессуальное законодательство Российской Федерации, в случаях когда их применение создает угрозу национальной безопасности.
Теория права рассматривает государственный суверенитет как фундаментальную категорию, неразрывно связанную с существованием государства [2, c.17]. Взаимодействие государства с международным право формирует его правовую позицию относительно допустимости международной юрисдикции. Изменения в миропорядке после прекращения существования СССР [3] и современные международные процессы активизировали дискуссии о пределах суверенитета, не отрицая его традиционного понимания как основы межгосударственной системы.
Проблематика государственного суверенитета России охватывает политическую, экономическую, информационную и правовые сферы [4]. В правовом поле значимым шагом стало внесение изменений Федеральным законом от 08.12.2020 № 419-ФЗ в статью 1 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (далее УПК РФ), установившее, что правила международных договоров Российской Федерации не применяются, если их истолкование противоречит Конституции Российской Федерации. Это создает правовую основу для разрешения коллизий в пользу национальных интересов безопасности.
Как отмечал А.Я. Вышинский, признание приоритета национального права, отвечающего интересам суверенного государства, не противоречит международному праву, а, напротив, создает для него прочную основу [5, с. 481]. Данный тезис сохраняет актуальность в контексте поиска баланса между международными обязательствами и защитой национальной безопасности.
Материалы и методы
Методологическую основу исследования составили общенаучные и частнонаучные методы познания: диалектический, формально-логический (анализ, синтез, индукция, дедукция), исторический, системный, сравнительно-правовой, герменевтический.
Результаты исследования
В соответствии с пунктом 47 Концепции внешней политики Российской Федерации обеспечение учета национальных интересов, исторических и социокультурных особенностей России является важным аспектом совершенствования международно-правового регулирования. Национальные интересы России, включая безопасность, суверенитет и конституционный строй, выступают ключевыми объектами правовой защиты1.
Изменения в Конституцию Российской Федерации и в УПК РФ, касающиеся приоритета национальных правил, не означают отказа Российской Федерации от выполнения международных договоров. Статья 459 УПК РФ предусматривает возможность осуществления уголовного преследования российского гражданина по запросу иностранного государства за преступление, совершенное на его территории, если лицо вернулось в Российскую Федерацию до возбуждения уголовного дела.
На практике возникают ситуации, когда такие запросы, особенно после февраля 2022 года, носят политически мотивированный характер, например, по информации, опубликованной в средствах массовой информации, в отношении более чем 40 граждан Российской Федерации возбуждены уголовные дела по политическим мотивам на Украине2, более 90 уголовных дел возбуждены в Чехии за поддержку России в специальной военной операции. Международные договоры (в частности, Европейская конвенция о взаимной правовой помощи по уголовным делам) обязывают государства осуществлять уголовное преследование или выдачу лиц, подозреваемых в преступлениях, находящихся на их территории [6]. Однако часть 3 статьи 1 УПК РФ запрещает применение правил международных договоров в истолковании, противоречащем Конституции Российской Федерации, что дает основания российским компетентным органам отказывать в выдаче или преследовании, если есть основания полагать его необоснованным и нарушающим права российских граждан.
Следует отметить, что точка зрения Е.Т. Усенко о приоритете национального права как отрицании международного [7, с. 126] представляется излишне категоричной. Международное право регулирует межгосударственные отношения и для действия внутри страны требует имплементации в национальную правовую систему [8]. При этом Е.Т. Усенко справедливо указывал, что международное право может использоваться как инструмент воздействия на государственно-правовые системы стран [7, с. 164].
Ведущие государства мира активно защищают свое национальное право и не всегда имплементируют международные нормы. Примером может служить Закон США Patriotic Act (2001), расширивший полномочия правоохранительных орга- нов в борьбе с терроризмом, в том числе экстерриториально.
Российская Федерация, как подчеркивал Президент В.В. Путин, исполняет международные обязательства, но решения международных органов действуют на территории Российской Федерации лишь в части, не противоречащей Конституции Российской Федерации и не ограничивающей права граждан1. Российская Федерация не отказывается от международных обязательств в одностороннем порядке без оснований [9], но выстраивает политику, направленную на защиту суверенитета. Дополнительные полномочия Конституционного Суда Российской Федерации (пункт «б» части 5.1 статьи 125 Конституции Российской Федерации) позволяют ему разрешать вопросы исполнения решений межгосударственных органов, если их истолкование противоречит Конституции Российской Федерации2.
Проблема выбора заключается в балансировании между отказом от международно-правового сотрудничества (с риском изоляции) и согласием на обязательства, потенциально ограничивающие суверенитет. Федеральный закон №419-ФЗ, ограничив приоритет международных договоров в процессуальных отраслях права (при противоречии Конституции), создал механизм защиты национальных интересов без полного отказа от международного права. Важно не допустить превращения международных норм в фикцию, сохраняя возможность сотрудничества в других сферах.
Современные вызовы безопасности, включая попытки исключения Российской Федерации из международных организаций (Интерпол, ФАТФ) [10], актуализируют вопрос о защите государственной безопасности от вмешательства под предлогом международного права. К уголовно-правовым средствам такой защиты относятся новые нормы Уголовного кодекса Российской Федерации (далее УК РФ): статья 2841 УК РФ (Осуществление деятельности иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации ее деятельности), статья 2842 УК РФ (Призывы к введению мер ограничительного характера в отношении Российской Федерации, граждан Российской Федерации или российских юридических лиц), статья 2843 УК
РФ (Оказание содействия в исполнении решений международных организаций, в которых Российская Федерация не участвует, или иностранных государственных органов) включены в главу 29 УК РФ, объектом охраны которых является конституционный строй и безопасность государства. В статье 2841 УК РФ содержится ссылка на статью 3303 УК РФ (Осуществление деятельности на территории Российской Федерации иностранной или международной коммерческой неправительственной организации, сведения о структурных подразделениях которой отсутствуют в реестре филиалов и представительств международных организаций и иностранных некоммерческих неправительственных организаций или которая не имеет зарегистрированного в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о некоммерческих организациях, структурного подразделения – отделения), объектом охраны которой является порядок управления, а не конституционный строй и безопасность государства.
В доктрине отмечаются проблемы в конструкции таких норм и их применении [11], а также системные дефекты правового регулирования безопасности, для решения которых предлагается разработка нового Уголовного кодекса [12]. По нашему мнению, новый кодифицированный уголовный закон не решит всех тех задач, которые возникают перед законодателем ежедневно, тем более в настоящих условиях, когда уголовно-правовые средства являются основным способом противодействия новым видам преступлений.
Расширение составов преступлений против основ конституционного строя и безопасности государства (глава 29 УК РФ), преступлений против военной службы, введение норм с административной преюдицией отражают выбор уголовного права как основного инструмента защиты. Это актуализирует вопрос о пределах приоритета международного права, формировавшегося в Российской Федерации с 1993 года на основе статьи 15 Конституции [13, с. 42-43], и обосновывавшегося его общечеловеческой ценностью [14, с. 6364] и консенсусным характером [15, с. 7]. При этом ведущие страны (США, Великобритания, Китай) более жестко отстаивают приоритет национального права.
В российской правовой доктрине звучат предложения о законодательном закреплении приоритета национального права над международным, в том числе исключении из Конституции Российской Федерации положения о международном праве как части правовой системы (например, позиция А.И. Бастрыкина1). Одним из аргументов является недостаточность существующих механизмов экстерриториального уголовного преследования лиц, совершающих преступления против интересов Российской Федерации. Однако решение этой проблемы требует сложных международных договоренностей и взаимности, учитывая, что Российская Федерация также не допускает расследований иностранных спецслужб на своей территории.
Полный отказ от международного права для Российской Федерации нецелесообразен и невозможен, учитывая широкое международное сотрудничество. Однако попытки навязать геополитические интересы через международное право должны блокироваться. Национальное законодательство, включая российское, базируется на собственной идеологической, исторической и культурной основе, и давление международных норм, игнорирующее эту основу, может приводить к правовым конфликтам.
Обсуждение и заключение
Проведенное исследование позволило выявить существенную проблему: коллизию между международными обязательствами Российской Федерации и необходимостью эффективной уголовно-правовой защиты суверенитета и безопасности от современных угроз. Новизна исследования заключается в обосновании системного подхода к ограничению автоматической имплементации норм международного права в российское уголовное и уголовно-процессуальное законодательство в случаях, когда их применение создает угрозу национальной безопасности. Законодательные изменения (ФЗ №410-ФЗ) являются первым шагом в этом направлении, но требуют развития.
Предлагается закрепить на законодательном уровне четкие критерии и процедуры, при которых нормы российского уголовного и уголовно-процессуального права имеют приоритет на нормами международных договоров в сфере защиты основ конституционного строя, государственной безопасности, суверенитета и обороноспособности. Это может быть реализовано через дополнения в УК РФ и УПК РФ, совершенствование конкретных норм УК РФ, направленных на защиту суверенитета от иностранного вмешательства, устраняя выявленные в доктрине неоднозначности их толкования и применения [11]. Развивать доктринальное обоснование такого приоритета необходимо, опираясь на принцип защиты основ конституционного строя как высшей ценности (статья 2 Конституции Российской Федерации) и необходимость обеспечения национальной безопасности (Стратегия национальной безопасности Российской Федерации).
Военно-политическая и экономическая конъюнктура обосновывает необходимость признания уголовно-правовой охраны государственных интересов, суверенитета и конституционного строя приоритетной задачей на текущем этапе. Это требует соответствующей расстановки приоритетов в правовой политике и законодательстве.
Приоритет национального права в сфере безопасности не означает отказа от международного сотрудничества, но предполагает создание надежных правовых механизмов защиты от его использования в ущерб национальным интересам России. Ключевым принципом должно оставаться соответствие имплементируемых норм Конституции Российской Федерации и стратегическим интересам национальной безопасности.