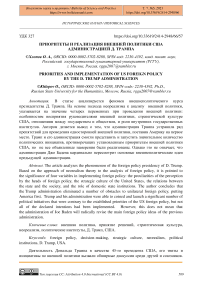Приоритеты и реализация внешней политики США администрацией Д. Трампа
Автор: Хлопов Олег Анатольевич
Журнал: Бюллетень науки и практики @bulletennauki
Рубрика: Исторические науки
Статья в выпуске: 5 т.7, 2021 года.
Бесплатный доступ
В статье анализируется феномен внешнеполитического курса президентства Д. Трампа. На основе подхода неореализма к анализу внешней политики, указывается на значение четырех переменных при проведении внешней политики: особенностям восприятия руководителями внешней политики, стратегической культуре США, отношениям между государством и обществом, и роли внутренних государственных институтов. Автором делается вывод о том, что администрация Трампа устранила ряд препятствий для проведения односторонней внешней политики, поставив Америку на первое место. Трамп и его администрация смогли представить и запустить значительное количество политических инициатив, противоречащих установленным приоритетам внешней политики США, но не все объявленные намерения были реализованы. Однако это не означает, что администрация Джо Бадена кардинально пересмотрит основные внешнеполитические идеи предыдущей администрации.
Внешняя политика, принятие решений, стратегическая культура, неореализм, политические институты, д. трамп, сша
Короткий адрес: https://sciup.org/14120984
IDR: 14120984 | УДК: 327 | DOI: 10.33619/2414-2948/66/57
Текст научной статьи Приоритеты и реализация внешней политики США администрацией Д. Трампа
Бюллетень науки и практики / Bulletin of Science and Practice
УДК 327
Деятельность Дональда Трампа в качестве 45-го президента США, его твиты и инициативы по внешней политики вызвали обширные дискуссии среди друзей и союзников.
Ученые и эксперты в области международных отношений высказывали различные мнения и опасения, утверждая, что «впервые с 1930-х гг. Соединенные Штаты избрали президента, который враждебно настроен к либеральному интернационализму, и что либеральный международный порядок находится в кризисе» [1].
Анализ внешней политики США при президенте Д. Трампа позволяют сделать два важных замечания. Во-первых, Д. Трамп и его политические инициативы могут не быть такими неожиданными и «уникальными», как это кажется со стороны его критиков. Во-вторых, американская политическая система построена на идее «сдержек и противовесов», включая международную политику. Однако, за последние десятилетия контроль Конгресса за президентские полномочия во внешней политике значительно снизился, и поэтому принятие решений по внешней политике все в большей степени централизовалось в Белом доме [2].
Отсутствие национальных и международных ограничений привело к тому, что Дж. Буш-мл. руководил «самым радикальным изменением общей стратегии США со времен Франклина Д. Рузвельта» [3], которые включали развязывание войн в Афганистане и Ираке. Следует задать вопрос — почему и как Д. Трамп пытался дистанцироваться и порвать с преобладающими приоритетами и позициями, которые характеризовали американскую внешнюю политику на протяжении последних 70 лет. Согласно оценке американского политолога Джона Икенберри, американская внешняя политика за последние годы ставила во главу угла свободную торговлю, союзы и многосторонность, а также международное право, которые имели решающее значение для развития так называемого «либерального международного порядка» [1]. Администрация Трампа за все время пребывания у власти пыталась «изменить» то, что было преобладающими внешнеполитическими приоритетами США на протяжении почти 70 лет.
Существует ряд концепций и теорий, которые объясняют характер американской внешней политики. С одной стороны, системные теории подчеркивают значение важности международных системных факторов и сосредотачиваются на анализе поведения государства как реакции на внешнее давление. С другой стороны, существуют теории, которые подчеркивают значимость внутренних факторов для объяснения внешней политики, исходя из предположения, что внутренние причины являются наиболее важным условиями для формирования внешнеполитической стратеги государства. Для данного анализ представляется важным, именно такой подход, к анализу внешней политики США, поскольку он особое внимание уделяет внутренним обстоятельствам, которые составляют часть фона для принятия внешнеполитических решений [4].
Концепция неоклассического реализма считается полезной, поскольку способствует обращению аналитического внимания на мотивы и интересы основных действующих лиц и агентств, участвующих в формирование внешней политики, утверждая, что государство или правительство не являются единым и согласованным субъектом, способным рациональным образом преследовать четко определенные национальные интересы.
Согласно теоретическим постулатам неореализма международные системные условия фильтруются и интерпретируются с помощью четырех внутренних (факторов) переменных. Иными словами, международные системные факторы являются независимой переменной, тогда как внутренние такие как — образы и восприятие лидерами государства основных идей, стратегическая культура», отношения между государством и обществом и «внутренние институциональные механизмы — помогают лучше объяснить, почему Д. Трамп смог запустить множество политических инициатив, который вызывали недоумение у части американского общества и международного сообществ [5].
Первая переменная относится к убеждениям и восприятию лиц, принимающих решения. Убеждения и представления важны, потому что они должны вести к политическим действиям. Иногда переменную называют ролью личности и лидерства в принятии внешнеполитических решений [6]. Несомненно, уместно расширить круг людей, принимающих внешнеполитические решения самостоятельно, и говорить более широко о «внешнеполитическом руководстве».
Вторая переменная — это стратегическая культура, которая относится к глубоко укоренившимся концепциям и представлениям о национальных интересах и национальной безопасности государства. В данном анализе полезно оперировать концепцией «гранд стратегия» (Grand strategy), которая имеет ряд общих черт с концепцией «стратегическая культура», хотя и более конкретна в перечислении основных внешнеполитических приоритетов. Обе концепции основаны на сильной исторической составляющей. Предполагается, что стратегическая культура, а также общая стратегия формируют стратегическое понимание политических лидеров, политической элиты и даже широкой общественности, и что посредством социализации и институционализации стратегическая культура и общая стратегия определяют и ограничивают поведение государства и его свободу действий.
Третья переменная относится к характеристикам отношений между государством и обществом, которые могут оказывать значительное влияние на внешнеполитическое поведение государства. Ключевой элемент относится к степени понимания общих интересов или гармонии между правительством и обществом и, следовательно, к уровню поддержки общей внешней политики и целей национальной безопасности, которые содержатся в стратегической культуре страны. Очевидно, что возрастающий уровень поляризации в американском обществе и в политической системе оказывает особое влияние на открытую американскую политическую систему, которая «ориентирована на общество». Открытость политической системы подчеркивает важность доступности и потенциального влияния социальных субъектов, таких как группы гражданского общества, НПО, лоббистские группы и различные типы групп экономических интересов на принятие решений в области внешней политики.
Наконец, внутренние государственные институты считаются важной переменной, поскольку они не только участвуют в принятии внешнеполитических решений, но и имеют решающее значение, когда дело доходит до их выполнения. Отказавшись от представления о государствах как о последовательных и рациональных субъектах, неореализм, как международно-политическая теория, указывает на то, что различные государственные институты могут преследовать свои собственные конкретные интересы и цели во внешней политике. Часто министерства иностранных дел сталкиваются с рядом «соперников» среди правительственных ведомств. На этом этапе Кристофер Хилл предлагает ввести классическую теорию «бюрократической политики» [7], поскольку идея бюрократической политики имеет важные последствия для изучения внешней политики. Более того, это также открывает аналитическую возможность для глубокого анализа процесса принятия решений, которые являются одновременно иррациональными и непоследовательными, поскольку каждое государственное учреждение может преследовать свои собственные узкие интересы.
Таким образом, в статье сформулированы пояснительные гипотезы, связанные с каждой из четырех промежуточных переменных. Гипотезы используются для фокусирования на четырех важных фактора, которые как по отдельности, так и вместе дают возможные объяснения формирования или изменений поведения государства на международной арене.
Восприятие основных лиц, принимающих решения во внешней политике. Первоначально было трудно получить ясное представление о личном восприятии Дональдом Трампом американской внешней политик и почему администрация Трампа выступала с таким количеством внезапных и неожиданных внешнеполитических инициатив. Однако в июне 2018 г. Джеффри Голдберг представил фрагменты того, что было описано как «доктрина Трампа». Основное содержание доктрины, а также цели и задачи внешней политики США были сведены к уверенности Трампа в том, что «Соединенные Штаты никому ничего не должны — особенно своим союзникам» [8]. Такое восприятие подразумевает, что американский президент считает, что 70 лет тесных трансатлантических отношений, включая альянс с НАТО, не подразумевают каких-либо обязательств для США перед Европой, не говоря уже о Европейском Союзе.
Мировоззрение Трампа было основано на трех элементах. Во-первых, ему не нравились военные союзы Америки, которые он считал вредными или прямой и реальной угрозой для США. Союзники связывают и эксплуатируют США своими соглашениями о свободной торговле и военными союзами и своими бесконечными ожиданиями преференциального режима. Следовательно, десятилетия старых дружеских отношений, таких как трансатлантический альянс, не стали священными для президента Трампа [9].
Еще во время своей президентской кампании в 2016 г. Д. Трамп поднял вопросы об актуальности альянса после окончания «холодной войны». Он утверждал, что США несут слишком большую ответственность за безопасность Европы и был твердо убежден в том, что мировая экономика несправедлива по отношению к США. Вследствие восприятия того, что союзы не приносят США пользы, Трамп считал, что сохранение союзников и противников в постоянном дисбалансе приносит пользу США. Все это определилось в общую политическую позицию, подразумевающую, что США не должны беспокоиться о других странах, их интересах и других мнениях.
Д. Трамп как президент последовательно выполнял внешнеполитические обещания, которые он дал во время предвыборной кампании в 2016 г. сосредоточившись на возможности «отключении» Америки от международного порядка, созданного после Второй мировой войны. Президент был последователен в реализации односторонней стратегии, подчеркивая такие понятия, как «национальная честь» и «репутация», как неотъемлемые элементы его тезиса «Америка прежде всего». Одним из примеров односторонних взглядов Д. Трампа было его желание выйти из Парижского соглашения по климату, что продемонстрировало удивительную согласованность между декларациями, сделанными во время предвыборной кампании, и политическими инициативами, реализованными администрацией Трампа.
Назначение Джона Болтона, сторонника жесткой линии внешней политики, на должность советника по национальной безопасности подчеркнуло важность назначений, основанных на сильных идеологических взглядах и заявлениях. Дж. Болтон проявил себя как ястреб во внешней политике со склонностью к односторонним действиям. Мировоззрение Болтона характеризуется глубоким недоверием к дипломатии для разрешения споров. Он был убежден, что сила и принуждение предпочтительнее для продвижения интересов США, и что одна только сила обеспечит сохранение американского доминирования в международной системе. Болтон верил в односторонность и очень скептически относился к многосторонности, публично выступал за нанесение превентивных ударов по Ирану и Северной Корее и за смену режима в обеих странах [10].
Взгляды разделяемые Д. Трампом, госсекретарем М. Помпео и Дж. Болтоном, не способствовали поддержанию тесных доверительных отношений между европейскими союзниками, другими союзниками и США. Однако уровень согласия между тремя руководителями был особенно виден в отношении ряда спорных внешнеполитических шагов, таких как выход из Парижского соглашения, выход из ядерной сделки Ирана и Транстихоокеанского торгового соглашения (ТТП). Торговые войны против ЕС и Китая также отражали сильные националистические и односторонние взгляды, разделяемые президентом, госсекретарем и советником по национальной безопасности.
Однако степень согласия между ключевыми лицами, принимающими решения, не следует переоценивать. Между М. Помпео и Дж. Болтоном возник ряд разногласий по конкретным вопросам политики. Например, о том, как разрешить иранский конфликт во время конфронтации между двумя странами весной 2019 г., стали достоянием общественности. Они также разошлись в своем подходе к режиму Северной Кореи. Здесь президент был одинок в своем мнении о том, что Ким Чен Ын — заслуживающий доверия партнер. У Помпео также были серьезные разногласия с президентом по поводу политического подхода в отношении Ирана и Северной Корее - насколько жестко США должны подойти к Северной Корее и Ирану и в том случае, если потребуется применить военную силу. Между ними также были разногласия в отношении Сирии и Израиля, включая одностороннее признание аннексии Израилем Голанских высот.
Однако наиболее серьезным последствием неустойчивой внешней политики Д. Трампа стала потеря доверия к Америке в международных делах [11].
Стратегическая культура и грандстратегия. Вторая гипотеза утверждает, что Д. Трампу удалось резко изменить стратегическую культуру и грандстратегию, продвигая США в изоляционистском направлении. Стратегическая культура и общая стратегия глубоко укоренились в сознании политической элиты о путях представлениях национальной безопасности, что привело Патрика Портера к выводу, что «фундаментальные обязательства в области безопасности трудно изменить даже в условиях потрясений» [12]. Наиболее фундаментальные представления в американской стратегической культуре находятся между идеями изоляционизма и интервенционизма.
Общая стратегия, склоняющаяся к интервенционистской ориентации, и состоит из ключевых взаимосвязанных компонентов, которые повлияли на содержание внешней политики США в течение последних десятилетий: 1) США должны иметь превосходство в военном отношении; 2) США должны успокаивать и сдерживать своих союзников; 3) США должны интегрировать другие государства в созданные ими международные институты, такие как НАТО, ООН и свободные рынки, такие как ВТО; 4) США должны сдерживать распространение ядерного оружия.
Идея Д. Трампа «Америка прежде всего» отражала радикально иное видение США, основанное на взглядах президента США Эндрю Джексона (1829–1837, первый президент от демократической партии) во внешней политике. По сути, он выступал за одностороннюю и предпочитал жесткую силу.
Если обратиться к первому компоненту грандстратегии, согласно которой США должны иметь военное превосходство, мало что изменилось за годы президентства Д. Трампа. Скорее наоборот, поскольку Трамп способствовал значительному увеличению оборонного бюджета, «американская приверженность военной силе остается важной целью, и союзники добавляют ровно столько денег в свои планы обороны, чтобы успокоить президента. Другими словами, это обычный бизнес» [13].
Д. Трамп нанес наибольший ущерб второму компоненту стратегии, касающегося отношения с союзниками. Неоднократные нападки Трампа на европейских партнеров по НАТО за невыполнение своих финансовых обязательств раздражали союзников. Выход из ядерной сделки с Ираном в мае 2018 г. указывал в том же направлении, поскольку он произошел после прямых переговоров между американским президентом и Э. Макроном и А. Меркель, которые советовали Трампу не отказываться от соглашения [14].
Скептическое отношение президента к европейскому сотрудничеству в рамках ЕС нашло отражение в Стратегии национальной безопасности (2017) и в других стратегических документах, в которых почти не упоминается Европейский Союз. В Стратегии национальной безопасности Европа упоминалась как: «сильная и свободная Европа, которая имеет жизненно важное значение для Соединенных Штатов. Нас связывает общая приверженность принципам демократии, свободы личности и верховенства закона» [15]. Аналогичным образом, в Стратегии национальной обороны (2018) подчеркивается, что «сильная и свободная Европа, связанная согласованными принципами демократии, национального суверенитета и приверженностью статье 5 договора НАТО, жизненно важна для нашей безопасности» [16]. В то же время в Стратегии национальной обороны подчеркивалось, что США ожидают, что европейские партнеры адаптируются к новым вызовам безопасности и, что они должны были увеличить свои расходы на оборону и модернизацию.
Что касается третьего компонента, международных институтов и свободных рынков, то администрация Трампа явно отказалась от проторенных путей либерального международного порядка. Помимо выхода США из ряда международных соглашений, таких как Парижское соглашение по климату, ядерная сделка с Ираном, региональные соглашения о свободной торговле, такие как «ТТП», администрация начала торговые войны против друзей и союзников в Европе, с Канадой и Китаем.
Основываясь на политических инициативах и стратегических документах, выпущенных в 2017 и 2018 гг., можно сделать вывод о том, что администрация Д. Трампа стремилась подорвать политику бывших администраций и, таким образом, изменить ключевые элементы грандстратегии США. Все эти инициативы и решения соответствовали философии и изоляционистскому мышлению присуще стратегической культуре периода президентства Эндрю Джексона. Однако политические инициативы, выдвинутые Д. Трампом, не были полностью изоляционистскими, а сосредотачивались в первую очередь на Америке с приверженностью к НАТО в качестве возможного, хотя и неоднозначного исключения. Это не позволяет сделать однозначный вывод о том, что Д. Трамп смог изменить стратегическую культуру США в течение своего правления.
Соотношение государство-общество. Третья гипотеза основана на том, что поляризация американской политической системы позволила администрации Д. Трампа выдвинуть внешнеполитические инициативы, которые противоречили традиционным приоритетам внешней политики. Ключевым элементом отношений между государством и обществом является степень гармонии ли или отсутствия понимания между государством и обществом.
С конца 1970-х гг. в США наблюдалось устойчивое усиление поляризации в Палате представителей и в Сенате. Сегодня наблюдается повышенный уровень партийной поляризации как на уровне элиты, так и на массовом уровне, что означает, что люди все чаще не идентифицируют себя с политическими партиями, а выступают против них [17].
Политическая поляризация связана с доверием населения к правительству, и с середины 1960-х гг. произошло заметное снижение общественного доверия к правительству США. Пятьдесят лет назад около 75% населения доверяли федеральному правительству. В 2016 г. этот показатель упал ниже 25%, и в течение первого года правления Трампа снижение продолжалось [18]. Подобная эрозия доверия к властям и частному бизнесу была выявлена, когда акцент был распространен на СМИ, церкви, корпорации и университеты. Данные показывают, что спад не был изолированным явлением, а отражал более широкую тенденцию, характеризовавшую американское общество до прихода к власти Д. Трампа. Последователи Трампа высказывали недоверие к людям, которые много лет формировали американскую внешнюю политику, и очень скептически относились к участию мировых проблем предыдущих правительств. Хотя последователи Д. Трампа не доверяли элите Вашингтона и ее склонностям к международному сотрудничеству, джексоновские националисты знали о Трампе одно: «он однозначно на их стороне» [19].
Результаты опроса американского общественного мнения и внешней политики США, проведенный Чикагским советом по глобальным делам, показали, что все больший процент американской общественности поддерживает активную роль США в мировых делах . Точно так же не менее 75% поддержали американские обязательства перед НАТО [20]. Данные сохранились на уровне в 2017 и 2018 гг., несмотря на то, что НАТО была одной из излюбленных целей критики Д. Трампа. С другой стороны, отчет исследовательского центра Pew Research Center за 2017 г. показал растущие различия между демократами и республиканцами в их взглядах на НАТО, указав на наличие поляризации во внешней политике. В отчете указано, что менее 50% республиканцев поддерживают НАТО [21].
Однако две политические партии разошлись по ключевым вопросам внешней политики — использование силы и важность многосторонних институтов, таких как НАТО и ООН и растущая поляризация фактически закрыла возможность для более тесного сотрудничества между исполнительной властью и Конгрессом, что также усложнило поиск общих взглядов во внешней политике.
Поляризация повлияла на формирование внешней политики. Это сделало двухпартийный консенсус по внешнеполитическим инициативам труднодостижимым делом и открыло путь для политических инициатив, которые имели только однопартийную политическую поддержку. Более того, поляризация увеличивала риск резких колебаний политики от одной администрации к другой, что усложняло выполнение долгосрочных обязательств перед союзниками и партнерами.
Стремясь реализовать иное видение внешней политики, президент Трамп в 2016 г. пообещал «осушить болото» — изгнать элиту, находящуюся в Вашингтоне, округ Колумбия. Конкретно «болото» относится к двухпартийному классу бывших чиновников, комментаторов СМИ, авторов и пропагандистов общественного мнения и сотрудников аналитических центров, которые постоянно беспокоятся о «крахе американского порядка безопасности» [22].
Такое понимание интересов США двухпартийной элиты Вашингтона в области национальной безопасности привело к тому, что бывший спичрайтер Б. Обамы Бен Роудс назвал ее «Blob» — «пятном» («клякса»). Исторически сложилось так, что эта часть элиты обнажает ястребиные взгляды, которые, как правило, втягивали США в большие неприятности за рубежом. Для этой группы республиканских и демократических экспертов по внешней политике было характерно то, что они являются сторонниками стратегии глобальной либеральной гегемонии США, которая в качестве дополнительной выгоды обеспечивала их «полную занятость». Именно по этой причине, как указывает, почти все аналитические центры, лобби и группы интересов были сторонниками интервенционистских идей во внешней политике США.
Таким образом, отношения между государством и обществом в Америке при Д. Трампа характеризовались сильной поляризацией, которая наиболее рельефно обозначилась среди населения, и опросы общественного мнения демонстрировали сильный скептицизм по отношению к установленным приоритетами внешней политики, связанными с участием США в международных делах. Поляризация, стала особенно заметной и внутри политической системы и элиты, она препятствует достижению компромисса, усиливает недоверие и, в конечном итоге, препятствует функционированию государственных институтов.
Поляризация американской политической системы, поддерживаемая сильными популистскими националистическими настроениями среди многих избирателей Трампа, способствует объяснению того, как Д. Трамп смог выступить со многими внешнеполитическими инициативами, которые явно противоречили традиционным приоритетам внешней политики США.
Правительственные учреждения. Четвертая гипотеза утверждает, что Д. Трамп и его близкие соратники смогли ослабить (маргинализировать) ключевые внешнеполитические правительственные институты, такие как государственный департамент и министерство обороны. Ослабление их влияния означало, что они не обладают достаточно знаниями международной ситуации, и понимания ограниченных возможностей использования военной силы.
Вместе с Белым домом, Казначейство, Объединенный комитет начальников штабов, ЦРУ и Совет национальной безопасности, а также два правительственных департамента являются основными участниками внешней политики США. Не только президент, но и Конгресс наделен значительными внешнеполитическими полномочиями. В последние годы общий баланс между двумя ветвями власти имел тенденцию усиления в пользу президентов. Типичная ситуация заключалась в том, что Конгресс реагировал на инициативы президента, а не запускал собственную внешнеполитическую повестку дня.
Данные американской ассоциации дипломатической службы показали, что 60% высокопоставленных кадровых офицеров Госдепартамента уволились в течение первого года работы Трампа. К апрелю 2018 г. было заполнено менее половины всех должностей высшего уровня, требующих утверждения Сенатом. Жизненно важные посты послов в Египте, Саудовской Аравии, Южной Корее и Южной Африке не были заполнены. Это привело наблюдателей к выводу, что Госдепартамент был «нефункциональным» и «поставлен на грань разорения» [23].
Назначение в марте 2018 г. Майка Помпео на пост госсекретаря никак не изменило ситуацию. Замораживание приема на работу способствовало деморализации многих сотрудников и стало символом руководства, которое не ценит свою работу. Если оценка верна, это означает, что ведомству было очень сложно преследовать традиционные внешнеполитические цели США. Более того, заметное ослабление ведомства означало, что его сотрудникам становилось все труднее обращаться к президенту с политическими советами, основанными на знании прошлой дипломатической практики и потенциальной ценности дипломатии для внешней политики.
В отличие от Госдепартамента, министерство обороны получило увеличивающееся финансирование. В 2017 г. финансовом году расходы на оборону составили более $ 600 млрд., в 2019 г. — $ 717 млрд. В отличие от отношений президента с Госдепартаментом, Трамп открыто поддержал вооруженные силы, пообещав оказывать им максимальную поддержку
Однако личное поведение президента обострило отношения между Белым домом и
Пентагоном. Президент Трамп постоянно держал Пентагон в стороне от административных решений, вызывая путаницу и сомнения относительно позиции США по вопросам национальной безопасности. Представители Пентагона были ошеломлены многочисленными внезапными изменениями в политике, когда Белый дом делал заявления по вопросам безопасности без предварительного согласования или уведомления Пентагона.
Ключевыми примерами явились распоряжение Трампа запретить трансгендерную военную службу, выход из ядерной сделки Ирана, объявление о прекращении совместных военных учений на Корейском полуострове. По ряду важнейших оборонных вопросов офицеры и официальные лица Пентагона не согласились с президентом и Белым домом. Это было в случае создания космических сил, из-за ценности трансатлантического военного союза, временной остановки военных учений в Южной Корее и из-за желания Трампа провести военный парад в Вашингтоне [24].
Наконец, в апреле 2018 г. Джон Болтон был назначен советником по национальной безопасности. Когда он принял эту должность, он заменил ряд сотрудников своими собственными людьми, сократил численность персонала и назначение лояльный сотрудников в Совет национальной безопасности, которое было истолковано так, как если бы «Болтон концентрировал свою власть ... Он определенно сделал себя невероятно могущественным, устранив другие центры силы, которые исторически существовали в СНБ» [25]. Согласно недавней книге Уильяма Бернса об американской дипломатии, за последние три десятилетия СНБ увеличился в размерах и превратился в «кризисный центр для иностранцев», которому уделяется приоритетное внимание на быстрые военные решения вместо поиска дипломатических решений проблем и вызовов.
За годы президентства Д. Трампа произошли очень существенные изменения: Госдепартамент был ослаблен резким сокращением числа опытных сотрудников, и, таким образом, потенциал его влияния на формирование внешней политики был сильно ограничен. Министерство обороны было отодвинуто на задний план при принятии важных политических решений, несмотря на то, что министерство и вооруженные силы получали увеличивающееся финансирование. Это приводит к выводу, что Д. Трамп в тесном сотрудничестве с Дж. Болтоном и его СНБ и Майком Помпео достиг положения, при котором стало возможным реализовывать свои конкретные внешнеполитические цели без потенциально сдерживающего влияния со стороны опыта и влияния Государственного департамента, Пентагона и Конгресса.
Таким образом, на основе проведенного анализа можно представить ряд выводов. Во-первых, ключевые лица, принимающие решения во внешней политике, такие как Д. Трамп, М. Помпео и Дж. Болтон, в основном разделяли точку зрения Трампа и полагали, что чрезмерная активная и интервенционистская внешняя политика бывших администраций не в интересах США. Они вместе разделяли глубоко укоренившийся скептицизм по отношению к альянсам и союзникам, которые способствуют объяснению того, почему администрация Трампа выдвинула так много инициатив, направленных на пересмотр установленных приоритетов американской внешней политики.
Во-вторых, внешнеполитические инициативы администрации Трампа сильно отличались от политики прежних администраций. Пока рано делать выводы о том, подрываются ли ключевые элементы грандстратегии США после его правления. С другой стороны, нет никаких сомнений в том, что внешняя политика администрации Трампа бросила серьезный вызов стратегической культуре, продвигая ее в одностороннем направлении, подчеркивая узкое толкование национальных интересов США вместо сохранения интервенционистского и многостороннего подхода к внешней политике. Неустойчивое и часто непредсказуемое поведение президента во внешних делах мешает сделать однозначный вывод о том, в какой степени американская стратегия будет изменена в течение ближайших лет президентства Джо Байдена.
В-третьих, сильная поляризация американской политической системы и американского общества открыли путь для выдвижения партийных инициатив в рамках внешней политики США. Несомненно, фоном переориентации внешнеполитических инициатив была успешная маргинализация Д. Трампом двухпартийного консенсуса по внешней политике в Вашингтоне в сочетании с недвусмысленной поддержкой его политических последователей. Поляризация политической системы и американского общества блокировало достижение компромиссов и согласование умеренных политических решений.
В-четвертых, сокращение штата и снижение роли специалистов в области внешней политики означало, что альтернативные мнения и политические предложения были практически заглушены. При этом, в то время как позиции Госдепартамент и Пентагон были ослаблены, Совет национальной безопасности занял ведущее место в «милитаризации» американской внешней политики.
В результате этих различных шагов были устранены многие традиционные препятствия для проведения односторонней внешней политики. Поэтому Д. Трамп и его администрация смогли представить и запустить значительное количество политических инициатив, противоречащих заявленным и установленным приоритетам внешней политики США. К окончанию его срока не все заявленные инициативы были реализованы, но впереди, возможно, открыт путь для последующих изменений администрации Джо Байдена.
Список литературы Приоритеты и реализация внешней политики США администрацией Д. Трампа
- Ikenberry G. J. The end of liberal international order? // International Affairs. 2018. V. 94. №1. P. 7-23. https://doi.org/10.1093/ia/iix241
- Goldgeier J., Saunders E. N. The unconstrained presidency: checks and balances eroded long before Trump // Foreign Aff. 2018. V. 97. P. 144.
- Gaddis J. L. Grand strategy in the second term // Foreign Affairs. 2005. V. 84. №1. P. 2. https://doi.org/10.2307/20034202
- Ripsman N. M., Taliaferro J. W., Lobell S. E. Neoclassical realist theory of international politics. Oxford University Press, 2016. https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199899234.003.0002
- Alden C., Aran A. Foreign policy analysis: new approaches. Routledge, 2019.
- Silove N. Beyond the buzzword: the three meanings of "grand strategy" // Security Studies.
- 2018. V. 27. №1. P. 27-57. https://doi.org/10.1080/09636412.2017.1360073
- Hill C. Foreign policy in the twenty-first century. Macmillan International Higher Education, 2015.
- Goldberg J. A senior White House official defines the Trump doctrine: 'We're America, bitch' // The Atlantic. 2018. V. 11.
- Friedman Lissner R., Rapp-Hooper M. The day after Trump: American strategy for a new international order // The Washington Quarterly. 2018. V. 41. №1. P. 7-25. https://doi.org/10.1080/0163660X.2018.1445353
- Gramer R., De Luce D. Bolton's Pick for Deputy Could Roil Pentagon Relations // Foreign Policy. 2018.
- Cohen E. A. America's Long Goodbye: The Real Crisis of the Trump Era // Foreign Aff. 2019. V. 98. P. 138.
- Porter P. Why America's grand strategy has not changed: Power, habit, and the US Foreign policy establishment // International Security. 2018. V. 42. №04. P. 9-46. https://doi.org/10.1162/isec_a_00311
- Posen B. R. The Rise of Illiberal Hegemony: Trump's Surprising Grand Strategy // Foreign Aff. 2018. V. 97. P. 20.
- Smith J. Rizzo R. Trump's War on Europe Is Revving Up // Foreign Policy. 2018, March 9. https://clck.ru/UhsQ2
- National Security Strategy of the United States of America. Washington: The White House, 2017. https://clck.ru/UhsQU
- National Defense Strategy. Washington: Pentagon, 2018. https://clck.ru/UhsQc
- Webster S. W. It's personal: The Big Five personality traits and negative partisan affect in polarized US politics // American behavioral scientist. 2018. V. 62. №1. P. 127-145. https://doi.org/10.1177/0002764218756925
- Rohac D., Kennedy L., Singh V. Drivers of authoritarian populism in the United States: A primer // AEI Paper & Studies. 2018. P. 1L.
- Mead W. R. The Jacksonian revolt: American populism and the liberal order // Foreign Aff. 2017. V. 96. P. 2.
- Smeltz D., Daalder I., Friedhoff K, Kafura C. What American Think about America First. Chicago: The Chicago Council on Global Affairs, 2017.
- Fagan M. NATO Is Seen Favorably in Many Member Countries, but Almost Half of Americans Say It Does Too Little. Pew Research Center, 2018.
- Samuels D. The aspiring novelist who became Obama's foreign-policy guru // New York Times. 2016. V. 5.
- Farrow R. War on Peace: The End of Diplomacy and the Decline of American Influence. WW Norton & Company, 2018.
- Mitchell E. Twelve Times Trump Surprise Pentagon. The Hill, 2018.
- Tracy A. This could go to hell in a handback: Is John Bolton playing games with Trump. Vanity Fair. 2018.