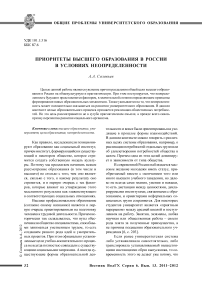Приоритеты высшего образования в России в условиях неопределенности
Автор: Соловьев Андрей Александрович
Журнал: Artium Magister @artium
Рубрика: Общие проблемы университетского образования
Статья в выпуске: 13, 2012 года.
Бесплатный доступ
Целью данной работы является уяснение причин разделения общей цели высшего образования в России на общекультурную и прагматическую. При этом постулируется, что неопределенность будущего представляется фактором, в значительной степени определяющим принципы формирования новых образовательных механизмов. Также указывается на то, что неопределенность может положительно сказываться на развитии университетского образования. В данном контексте целью образовательного процесса признается реализация общественных потребностей. Но эта цель рассматривается не в сугубо прагматическом смысле, а прежде всего сквозь призму перспектив развития социального организма
Высшее образование, университет, цели образования, неопределенность
Короткий адрес: https://sciup.org/14973928
IDR: 14973928 | УДК: 101.1:316
Текст научной статьи Приоритеты высшего образования в России в условиях неопределенности
Как правило, исследователи позиционируют образование как социальный институт, причем институт, формирующийся и существующий в некотором обществе, которое стремится создать собственную модель культуры. Поэтому мы предлагаем начинать всякое рассмотрение образования (в том числе и высшего) не столько с того, чем оно является, сколько с того, к какому результату оно стремится, и в первую очередь с тех факторов, которые влияют на утверждение этого мысленного результата как главенствующего в соответствующих социальных отношениях.
Высшее профессиональное образование (согласно своему названию) является в первую очередь ориентированным на подготовку человека к трудовой деятельности. Причем исторически так складывалось, что вузы обеспечивали общество специалистами, способными заниматься умственным трудом, то есть созданием разного рода идей и умозрительных проектов. При этом официально установленные цели учебно-воспитательного процесса не всегда полностью совпадали с существующими социальными запросами. А иногда существующие формы образовательной дея- тельности и вовсе были ориентированы на уходящие в прошлое формы взаимодействий. В данном контексте можно говорить о различных целях системы образования, например, о реализации потребностей отдельных групп или об удовлетворении потребностей общества в целом. Причем одна из этих целей доминирует в зависимости от типа общества.
В современной России наблюдается массовое желание молодежи иметь статус, приобретаемый вместе с окончанием того или иного высшего учебного заведения, но далеко не всегда сами знания, умения и навыки, то есть дистанция между ценностями, декларируемыми институтами, связанными с образованием, и ориентирами неформальных социальных групп сохраняется. Для некоторых студентов университет является «приятным перерывом» между средней школой и поступлением на работу. Занятия, экзамены, любая научная или общественная работа – своего рода плата за полученные преимущества, а не причина посещения образовательного учреждения [6, с. 203].
Если ранее университетская система либо устанавливала самостоятельно, либо транслировала устанавливаемый вышестоящими инстанциями образ выпускника, то современность этого не делает уже потому, что образа как единого просто нет. Всякий образец становится относительным, зависящим от конкретной ситуации. Данный факт некоторыми исследователями рассматривается как основание для переопределения критериев классического университета в его нынешних формах [4, с. 21].
Может ли современный университет совместить различные функции: сохранения и воспроизводства достижений культуры, с одной стороны, и обеспечения потребности в прагматическом образовании, гарантирующем сохранение самих университетов в условиях рыночной экономики, – с другой?
Реальность заставляет университетское образование становиться все более прикладным. При этом прагматизм является индивидуальным, можно сказать, «точечным». Ценностная сторона вопроса далеко не всегда вообще играет какую-либо роль . Конечно, аксиосфера в том или ином виде присутствует, но ориентироваться она может на различные потребности. Если границы доз-воленного-недозволенного недостаточно четко очерчены или не соответствуют мотивам тех или иных групп, то возможно несовпадение принимаемых студенческой молодежью ценностей с целями, официально устанавливаемыми университетом.
Мания приложения предполагает умение считать, измерять, искать и находить «измеримые характеристики», шкалы качества и эффективности. Именно эти умения и навыки, входящие в транслируемую обществом психологическую установку, определят, быть обществу развитым, развивающимся или даже «первобытным» [3, с. 315].
Современный образовательный процесс в целом представляет собой некоторую форму взаимодействия без видимых личностных соприкосновений. Вероятно, тенденция к «углублению и расширению» всеобщей толерантности на данном этапе привела лишь к всеобщей осторожности. Вместо сознательного принятия системы ценностей другого наблюдается стремление к формированию стойкой системы способов избегания ситуаций, требующих этого принятия. В этом смысле всякие личные контакты представляются человеку все менее приемлемыми. Вуз становится тем уровнем образования, который в наи- меньшей степени требует индивидуального, и не исключено, что этот уровень первым окажется под ударом осторожности-бесконтакт-ности.
Проблема усугубляется тем, что современному человеку уже не хватает правил и логики, созданных когда-то и кем-то. Они могут быть ему даже чужды, поскольку рождены другим пространственно-временным континуумом. «Такая заемная, имплантируемая ментальная практика показывает свою исчерпанность даже в тех случаях, когда приходится идти на компромиссы и беспредельно расширять причинно-следственный контекст, объясняя все несовершенством человеческого знания. Такое понимание в жизни уже не выручает. Происходят постоянные ошибки» [7, с. 175–176].
Культура в последнее время все больше воспринимается как нечто отчужденное от большей части населения. Соответственно этому массовое высшее образование в результате перестает быть ориентированным на воспитание студентов в рамках классической культурной парадигмы. Возможно, оно ориентировано на иную ментальность, на большие способности человека, основанные на наличии в его сознании готовых методов деятельности? Такие структуры не требуют постоянного «озарения», творческой интуиции, а предоставляют отработанные интеллектуальные схемы. Но действительно ли современный образованный человек так развит интеллектуально? И действительно ли цивилизация способствует такому развитию? Ведь если производственная техника почти исключает необходимость длительного формирования навыков ручного физического труда, то техника информационная обычно освобождает человека от необходимости длительного формирования навыков труда интеллектуального.
Очевидно, однако, и сохранение востребованности интеллектуальных видов деятельности тогда, когда машина выполняет значительную часть человеческого умственного труда. И прежде всего это относится к разным формам творчества. Мало того, информационные технологии создают и принципиально новые формы деятельности, новые смыслы и ценности. Но если соотносить достижения научно-технического прогресса с ориентированными на прикладные цели учебными мероприятиями, то можно получить специфические результаты.
Культурная граница между преподавателями и носителями массового сознания в реальном университете уже слишком мала. Возможно, просчет современного российского высшего образования, объявляющего себя классическим, в том, что оно не выступает в обществе как квалифицированный оппонент массовой культуры [5, с. 18]. Университет постепенно теряет свою автономию, что зачастую приводит к следующим последствиям:
-
- потере региональной или культурной спецификой ряда университетов;
-
- отсутствию возможности регулировать те или иные отношения внутри университета в зависимости от складывающихся обстоятельств;
-
- открытости для внедрения в учебно-воспитательные программы нетрадиционных форм взаимодействий.
Результатами прагматизации университетского образования нам представляются следующие факторы:
-
- потеря традиционной фундаментальности классического университета, включение его в общую прикладную программу;
-
- ориентация университета на коммерческие цели, необходимость постоянно оглядываться на возможность применения научных и учебных достижений в коммерческих целях;
-
- ориентация учебно-воспитательного процесса на подготовку студента к работе на свободном рынке вместо ориентации на самореализацию в сфере воспроизводства национальной культуры. В то же время непродуманное вмешательство государственных органов в «зараженное» прагматикой образовательное пространство может лишь усугубить положение вещей. Дело не том, что образование принципиально отличается от других видов деятельности. Причина скорее в разнице между системой, в которой потребитель имеет свободу выбора, и системой, в которой производитель находится в более выгодном положении, чем потребитель [6, с. 180].
Здесь следует оговориться, что не всегда однозначно можно указать потребителя образования. Кто им становится – студенты, организации, которые принимают выпускников на работу, может быть, общество в целом? Не настолько очевидны и производители высшего образования – студент, университет или государство?
Сложности установления ролевых матриц в университетском образовании способствует неопределенность будущего. Мир потерял устойчивость, предстал «переходами», «разрывами», тем «между», которое характеризует саму процессуальность социокультурных коммуникаций. Мир инноваций предложил классическому культурному наследию сохранить себя лишь как безусловную ценность раритета. Динамизм коммуникаций передается и в практику университетского образования, в том числе меняя его фундаментальное и гуманитарно настроенное содержание [4, с. 20].
Неопределенность обусловливает необходимость опережающего образования, которое в современных условиях возможно за счет переориентации программы с обучения на развитие студенческой молодежи. Не исключено при этом, что общественность может насторожить вероятность перехода подобной самоорганизации в неуправляемый хаотичный процесс. Однако социальный хаос не обязательно приводит к разложению системы ценностей. Он может быть как злокачественным (несущим разрушение), так и конструктивным, инновационным. Вероятно, что разрушения происходят при отсутствии социальной солидарности [2, с. 36]. В нашем случае под солидарностью понимается способность людей договориться относительно основных приоритетов образовательной деятельности.
Локальная хаотичность может повышаться и в связи с ростом объема информации в современном мире. Причиной беспорядочности тех или иных социальных отношений становятся не только фактические данности, но и разнообразие ценностных ориентаций социальных групп. Отсутствие общих критериев оценивания конструктивного потенциала события (информации о событии, явлении, мнении) приводит к потере общего знаменателя для оценки социальной ситуации. Чем больше информации, тем меньше возможности полноценного понимания ее человеком.
Поэтому при отсутствии общих знаменателей одной из возможностей взаимодействия личностей или групп является установка на принятие системы ценностей другого человека независимо от ее содержания. Для выработки способов поведения в новом обществе необходимы превентивные стратегии образования, трансдисциплинарный язык горизонтальных связей. Целостность знания как приоритет новых образовательных подходов разрешает проблему двух культур, уменьшает социальную дезадаптацию [1, с. 202]. К тому же крайне сложно каким-либо образом дифференцировать сферы человеческой жизнедеятельности. Да и границы между направленностью действия («конструктор»; «исполнитель»; «контролер»; «свободный художник» и т. д.) постепенно стираются. Можно говорить о том, что разные социальные роли, исполняемые человеком в тех или иных ситуациях в течение жизни, вызывают необходимость и в различных подходах к ним. В этом ключе еще раз укажем на особую значимость подготовки индивида к неопределенности грядущего.
Однако сегодня теория образования в основном опирается на эмпирические данные. В связи с весьма интенсивным реформированием всех форм учебно-воспитательного процесса, теория, описывая и объясняя достигнутые результаты социологических исследований, почти всегда обращается к прошлому опыту. Выходит, что исследования такого рода ориентированы на уходящую эпоху. Нам же представляется, что сама теория образовательного процесса должна быть опережающей. Только в этом случае она сможет адекватно реагировать на постоянные технологические и социальные изменения. Причем имеется в виду нацеленность на будущее при отсутствии определенной информации о том, что собой представляет это будущее. Должны ли мы стремиться к преодолению неопределенности в нашем мировоззрении, или к попыткам приспособить новые поколения к неизвестному пока будущему?
Соединение объективного мира и мира человека, преодоление разрыва объекта и субъекта может быть трансформировано в образовании в преодоление разрыва между обучающим и обучаемым. Субъект и объект объединяются, между ними не существует барьера. Причина тому – невозможность отделения субъекта от объекта, поэтому правомернее было бы говорить сразу о двух субъектах. Образовательный процесс в высшей школе – не столько монолог преподавателя, сколько диалог преподавателя и студента. Результат образовательной деятельности – не прикладное знание в ущерб фундаментальному (или наоборот), а, скорее, сочетание прикладного и фундаментального, позволяющее гармонично сочетать общественные и индивидуальные интересы.
Список литературы Приоритеты высшего образования в России в условиях неопределенности
- Буданов, В. Г. Синергетическая методология в постнеклассической науке и образовании/В. Г. Буданов//Синергетическая парадигма. Синергетика образования. -М.: Прогресс-традиция, 2007. -С. 174-210.
- Игнатенко, Т. И. Модусы двуликого хаоса: социально-психологический анализ/Т. И. Игнатенко, Е. Ю. Леонтьева//Вестник Волгоградского государственного университета. Сер. 7, Философия. Социология и социальные технологии. -№ 1. -С. 34-39.
- Петров, М. К. Язык. Знак. Культура/М. К. Петров. -М.: УРСС, 2004. -328 с.
- Петрова, Г. И. Ностальгия по классике университета: возможность оправдания и реальность перспективы/Г. И. Петрова//Классический университет в неклассическое время: Труды Томского государственного университета. Серия культурологическая. -2010. -Т. 269. -Томск: Изд-во Том. ун-та, 2008. -С. 20-23.
- Пойзнер, Б. Н. О границах университета Б. Н. Пойзнер, Э. А. Соснин//Классический университет в неклассическое время: Труды Томского государственного университета. Серия культурологическая. -Т. 269. -Томск: Изд-во Том. ун-та, 2008. -С. 16-19.
- Фридман, М. Свобода выбирать: Наша позиция/М. Фридман, Р. Фридман. -М.: Новое изд-во, 2007. -356 с.
- Ярославцева, Е. И. Сеть свободы человека/Е. И. Ярославцева//Многомерный образ человека: на пути к созданию единой науки о человеке. -М.: Прогресс-Традиция, 2007. -С. 175-176.