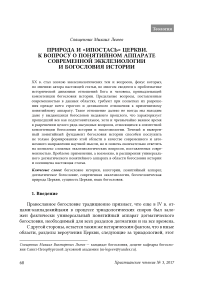Природа и «ипостась» церкви. К вопросу о понятийном аппарате современной экклезиологии и богословия истории
Автор: Легеев Михаил Викторович
Журнал: Христианское чтение @christian-reading
Рубрика: Теология
Статья в выпуске: 3 (74), 2017 года.
Бесплатный доступ
Резюме. XX в. стал эпохою экклезиологических тем и вопросов, фокус которых, по мнению автора настоящей статьи, во многом сводится к проблематике исторической динамики отношений Бога и человека, принадлежащей компетенции богословия истории. Предельные вопросы, поставленные современностью в данных областях, требуют при попытках их разреше- ния прежде всего строгого и деликатного отношения к применяемому понятийному аппарату. Такое отношение далеко не всегда мы находим даже у выдающихся богословов недавнего прошлого, что характеризует прошедший век как подготовительное, хотя и чрезвычайно важное время в разрешении целого ряда насущных вопросов, относящихся к совместной компетенции богословия истории и экклезиологии. Точный и выверен- ный понятийный фундамент богословия истории способен послужить не только формированию этой области в качестве современного и авто- номного направления научной мысли, но и помочь окончательно ответить на комплекс сложных экклезиологических вопросов, поставленных совре- менностью. Проблеме применения, а возможно, и расширения универсаль- ного догматического понятийного аппарата в области богословия истории и посвящена настоящая статья
Богословие истории, категории, понятийный аппарат, догматическое богословие, современная экклезиология, богочеловеческая природа церкви, сущность церкви, язык богословия
Короткий адрес: https://sciup.org/140190324
IDR: 140190324
Текст научной статьи Природа и «ипостась» церкви. К вопросу о понятийном аппарате современной экклезиологии и богословия истории
Православное богословие традиционно признает, что еще в IV в. отцами-каппадокийцами в процессе триадологических споров был заложен фактически универсальный понятийный аппарат догматического богословия, необходимый для всех разделов догматики и на все времена.
С другой стороны, остается таким же историческим фактом, что в иные области, разделы вероучения Церкви, следующие за триадологией, этот
аппарат вводился и в них осваивался постепенно (в том числе не без ошибок выдающихся богословов, даже святых людей), причем каждый раз в конечном итоге Церковь осознавала важность точного, строгого употребления основных догматических категорий (в том или ином богословском контексте).
Сейчас, можно сказать, на наших глазах подобные процессы происходят в области экклезиологии — в той области догматической мысли, перед которой уже наше время ставит предельные вопросы (чего не было раньше, точно так же, как когда-то столь же предельные вопросы в тот или иной исторический момент времени вставали перед церковной мыслью в отношении триадологии, христологии или пневматологии). Богословие истории, способное выступить регулятором современной эк-клезиологии, имеет перед собой прежде всего те же самые проблемы использования точного понятийного аппарата, что и сама экклезиология, а потому проблемную область и основания понятийного аппарата богословия истории надлежит искать именно в экклезиологии.
-
2. «Богочеловеческая природа Церкви»?
-
3. Природа Церкви и ее энергии
У целого ряда выдающихся богословов XX в., таких, как прот. Г. Фло-ровский1, прп. Иустин Попович2, прот. С. Булгаков3, протопр. Н. Афана-сьев4, протопр. А. Шмеман5, митр. Антоний (Блюм)6 и др., мы встречаем выражение «Богочеловеческая природа Церкви» («Богочеловеческая сущность Церкви», «Богочеловеческая суть Церкви», а иногда и «Богочеловеческая энергия Церкви»). Подобное словоупотребление уже стало историческим фактом. Более того, такое словоупотребление перешло в сегодняшний, XXI в. Мы встречаем подобные выражения, например, в «Основах социальной концепции РПЦ» (раздел I.2)7; можно встретить их и в некоторых современных научно-богословских трудах8. На уровне обиходного сознания в современной Церкви подобные выражения также представляют собой вариант нормы9.
В чем же неверность, и в догматическом отношении весьма глубокая неверность, даже недопустимость данного понятия — «Богочеловеческая природа Церкви»?
Еще в первой половине IV в. свт. Афанасий Великий в полемике с арианством показал (и доказал), что нет и не может существовать такого понятия, как «богочеловеческая природа», — нет и не может существовать в применении к чему бы то ни было. Природа Божественная и природа тварная, по глубоко библейской мысли свт. Афанасия, настолько и радикально инаковы по отношению друг к другу, что между ними лежит абсолютно непроходимая пропасть10. Между ними нет и не может быть какого-либо смешения или какого-либо промежуточного состояния на природном уровне; и таким образом, проблема общения несообщаемого, то есть Божественной и человеческой (тварной) природ (проблема, которую Арий пытался решить с помощью изобретения природы-посредника Сына), может быть решена лишь через понятие об ипостасном бытии, способном соединить в себе несоединимое по природе. Эта мысль равно относима как ко Христу, так и к нам, членам Церкви, а наконец, к самой Церкви.
Наименование «Богочеловек» возводится именно к ипостаси Сына Божия, изначально и предвечно Божественной, но ставшей сложной после принятия, воипостазирования в себя природы человека. «Вы — боги» (Ин. 10:34), — говорит Господь о тех, кому надлежит обожиться в Церкви; и это наше богочеловечество, богочеловечество Церкви Христовой (о которой прп. Иустин Попович говорит, что она есть «Богочеловек, продолженный во все века»11), богочеловечество каждого из ее членов есть богочелове-чество, возводимое к сообразным Божественным человеческим ипостасям, равно как и понятие о богочеловечестве Церкви возводится к соборно- ипо-стасному аспекту ее бытия как конкретного соборного организма. «Богочеловеческий организм Церкви» должен рассматриваться в свете ипостасно-го богословия, но не как категория природы или сущности . Нет и не может быть «богочеловеческой природы» Церкви, но есть «богочеловеческий организм» Церкви, ее богочеловеческое, соборно-ипостасное бытие.
Конечно, именно такое понимание имели ввиду упомянутые выше выдающиеся богословы XX в., хотя и не были точны в выражении своего понимания. Подобные исторически обусловленные неточности мы встречаем, например, у того же свт. Афанасия Великого (в отношении употребления понятия «ипостась» в триадологии), свт. Кирилла Александрийского (в отношении употребления понятия «сущность» в христологии), свт. Иоанна Златоуста и других святых12.
Встает вопрос: что же есть собственно природа, или сущность Церкви?
Изначальная, присущая ему от сотворения, причастность человеческого рода к нетварной благодати Триединого Творца и особенно тот факт, что Глава нашей Церкви, Христос, есть по природе не только совершенный человек, но и Бог, дает основание некоторым богословам (и прежде всего В. Н. Лосскому13) говорить о двух природах в Церкви14. Такой взгляд подразумевает энергийный контекст. Говоря так, необходимо помнить, что мы говорим о Божественных энергиях, обоживающих Тело Церкви, энергиях, которыми живет всеобоженная человеческая природа Самого Христа, но которые воипостазируют также и ипостаси церковных членов, после чего Божественная жизнь становится личным, ипостасным достоянием этих членов, достоянием каждого отдельного христианина. Как человеческими, так и Божественными энергиями, ставшими личным достоянием Церкви, а также ее частей и членов, Церковь выходит навстречу миру, пронизывает этот мир и призывает его ко Христу.
При более строгом подходе в отношении понятий мы не усвояем саму Божественную природу Богочеловеческому организму Церкви. Основанием для этого служит то, что Сын Божий, один из трех Лиц Святой Троицы, воипостазировав природу человека, не делает ее, строго говоря, вместе с тем некой второй природою Троицы . Таким же образом и в подобии Святой Троицы на земле, в Церкви Христовой Божественная природа ее Главы не становится второй природою Церкви, но обоживает собственную, человеческую природу Церкви своими нетварными энергиями.
Еще прежде творения мира именно человек, обнимающий в своей природе все природы тварного мира, замышляется Богом как Церковь — как ипо-стасное подобие троической жизни Бога15. Исходя из такого понимания, природою Церкви полагается человеческая природа Христа Спасителя, Главы и Основания Церкви, — всецелая, всесовершенная и всеобоженная16. Именно эта природа постепенно восстанавливается в церковных членах и уже восстановлена — в той мере, в которой эти члены стали сообразны Христу, в той мере, в какой уже восстановлено в них природное единство со Христом.
-
4. Природа Церкви и ее устройство
-
5. Ипостась Церкви или ипостасный образ бытия?
Экклезиологическая модель «человек, община, кафолическая Цер-ковь»17 способна более подробно и детально осветить природный аспект бытия Церкви.
Если отдельный человек , церковной член, хотя и является обладателем собственной природы 18, но является таковым лишь в той мере, в которой он — через личный труд и аскезу — подлинно стал Церковью , соединился со Христом в таинствах, осуществляемых и ставших для него живой реальностью через его жизнь в общине и причастие кафолической полноте Церкви. В остальном же путь человека как Церкви в истории представляет собой путь ко Христу — путь к обладанию обоженной природы Церкви.
В отличие от человека, община (то есть Церковь как синаксисо-ипостасное19 бытие20), будучи носителем Самого Христа21, соответственно является и совершенной обладательницей природы Церкви; ведь и Сам Христос имеет в Себе эту природу, совершенную и обоженную природу человека, и подлинно есть «Церковь… и Глава Церкви»22. Но даже это обладание для общины не означает ее ипостасное обожение, чему ясно свидетельствуют слова Откровения апостола Иоанна Богослова, обращенные к Малоазийским Церквам23.
Кафолическая же и всецелая Церковь , будучи совершенной носительницей полноты троической жизни, в самой себе, как в ипостасной реальности (кафолическо-ипостасном образе бытия24), превышает и собственную природу . Это происходит с возведением того «искупления природы», которое было принесено в Самом Себе Христом до искупления и спасения лично-ипостасного бытия человеков25. Ипостасная полнота кафолической Церкви, в силу причастия ей как отдельного члена церковного, так и общины, сообщается этим членам и частям Церкви в некоторую духовную меру. В эту меру они становятся способными ипостасно превысить собственную природу Церкви и подлинно являют в себе ее «сверхприродную» кафоличность, превышающую все преграды и разделения, всякую ограниченность тварного, ипостасный «прорыв» в нетварную жизнь Бога.
Так одна и та же природа, или сущность, Церкви будет различно являть себя в отдельном церковном члене, общине и кафолической полноте церковного бытия.
Другая важнейшая догматическая категория — понятие ипостаси — в экклезиологии требует к себе не меньшего внимания, нежели понятие природы.
Выражение «ипостась Церкви» мы встречаем, например, у прп. Максима Исповедника26, но принять его возможно лишь с некоторыми оговорками. У некоторых современных богословов можно обнаружить концепцию «корпоративной ипостаси»27, но такой взгляд встречает справедливую критику, указывающую на умаление в нем личного бытия членов Церкви28.
Для раскрытия ипостаного контекста экклезиологии, на наш взгляд, необходимо привлечение другого фундаментального понятия каппадокийского и, шире, святоотеческого богословия — «образ бытия», или «образ существования» (греч. τρóπος ύπάρξεως).
Современные исследователи отмечают нетождественность понятий «образ бытия» и «ипостась» в тех случаях, когда под образом бытия подразумевается образ бытия конкретной природы , указывая на более широкую смысловую область понятия «ипостась», обосновывая это способностью ипостаси выходить за пределы собственной природы29.
В нашей прошлой статье30 мы предложили к рассмотрению еще один аспект нетождественности данных понятий, на этот раз, напротив, с более широкой предметной областью понятия «образ бытия». Так, понятие «образ бытия», взятое как ипостасная реальность , но не обязательно как отдельная ипостась, способно охватить широкий спектр предметной области догматического богословия, включающей в себя тот или иной ипостасный контекст — от триипостасного бытия Бога до отдельной ипостаси человека. Применительно к экклезиологии, равно как и к сопутствующему ей богословию истории, такую ипостасную реальность могут представлять автономные и одновременно сопроникающие друг в друга организмы отдельного человека, общины и кафолической Церкви. Соответственно на уровне понятийного языка догматического богословия экклезиологическая модель «человек, община, кафолическая Церковь» будет представлена как ипостасный, синаксисо-ипостасный и кафолическо-ипостасный образы бытия .
Подобная модель позволяет сохранить баланс между необходимостью представить на понятийном уровне Церковь как автокефальное целое (не ограничиваясь при этом одним лишь «контекстом» природы) и невозможностью умаления свободы личного бытия Бога и человека. Позволяет она и отвергнуть такие крайние интерпретации устроения Церкви, согласно которым либо Христос «вбирает» в свою ипостасную жизнь ипостаси церковных членов (и соответственно Его ипостась выступает ипостасью Церкви), либо Церковь сама выступает отдельной ипостасью, обладающей безликим «„сверхсознанием11 некоей „коллективной лич-ности“»31. Кафолически-ипостасный образ бытия Церкви , или, по словам В. Н. Лосского, «тайна кафоличности Церкви, осуществляется в множественности человеческих сознаний как согласие единства и множества, по образу Пресвятой Троицы, тому образу, который Церковь осуществляет в своей жизни; три сознания — одно содержание… то есть некая „Божественная кафоличность“»32.
-
6. Заключение
Настоящую статью мы посвятили наиболее важным, ключевым понятиям догматического богословия, показав проблемную область применения их в отношении экклезиологии. Привлечение богословия истории к решению экклезиологических вопросов, как было нами показано в ряде предшествующих статей, делает разрешение этой проблемной области совершенно необходимым.
«За кадром» нашего внимания остался ряд важнейших понятий «второго плана»: энергии, образа Откровения и образа действия, воипостас-ного и других, значение которых для разрешения насущных вопросов, стоящих сегодня перед догматической наукой в целом и богословием истории в частности, не менее важно. Более полному обзору догматических понятий современной богословской мысли мы планируем посвятить отдельную статью.