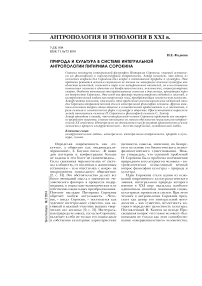Природа и культура в системе интегральной антропологии Питирима Сорокина
Автор: Фадеева Ирина Евгеньевна
Журнал: Общество. Среда. Развитие (Terra Humana) @terra-humana
Рубрика: Антропология и этнология в XXI веке
Статья в выпуске: 2 (31), 2014 года.
Бесплатный доступ
Альтруистическая любовь, интегрализм, интегральная антропология, природа и культура, символ
Короткий адрес: https://sciup.org/14031765
IDR: 14031765 | УДК: 008
Текст статьи Природа и культура в системе интегральной антропологии Питирима Сорокина
Terra Humana ¹ 2’2014
Определяя современность как «текучую», а общество как «индивидуализированное», З. Бауман писал: «В наши дни паттерны и конфигурации больше не заданы и тем более не самоочевидны... Силы сжижения переместились от системы к обществу, от политики к жизненным установкам – или опустились с макро- на микроуровень социального общежития» [2, с. 14]. Это обстоятельство делает все более очевидной мысль о значимости «человеческого фактора» в процессах модернизации, в социально-экономических или собственно социальных преобразованиях. Поэтому наследие Питирима Сорокина обретает особую актуальность. «Человек, – писал Сорокин, – постигается как чудесное интегральное существо, как активный и важный участник высших творческих сил космоса» [9, с. 51]. Интегральная природа человека, согласно Сорокину, включает в себя не только его социальные и собственно культурные характеристики
(ценности, смыслы, значения), но базируется на основе его биологического, психофизиологического существования. Можно утверждать, что сквозной проблемой П. Сорокина была проблема соотношения природного и культурного в человеке – антропологически осмысленный вечный вопрос философии культуры – природа и культура.
Идеи Сорокина стали одним из оснований современного культурологического знания, интегральная природа которого именно в XXI веке оказалась наиболее адекватным способом понимания социокультурных процессов и систем. При этом человек в антропологии Сорокина предстает как центр его интегральной методологии – как существо, целостность которого определяет целостность культуры. Поставленный И. Кантом на исходе Просвещения вопрос «что такое человек?» был возможен не только как этап самообосно-вания «совершеннолетнего» человечества, но как основание философско-культурологического моделирования человека, как его самообоснование не только в свете сущего, но в свете должного. Можно, видимо, сказать, что Модерн, сделавший человека центральной эпистемой научного и философского знания, определил его в его идеальных характеристиках, в творческой, познавательной – духовной деятельности. Человек Модерна – это идеал человека, гармонически соединяющий в себе природное и культурное.
Но там, где предшествующая эпоха видела гармонию или, по крайней мере, ее возможность, Сорокин обнаруживает разрыв, опасность прорыва в человеке – до-человеческого. Поэтому для П. Сорокина – философа эпохи кризиса Модерна и кризиса связанной с ним чувственной культуры «после Освенцима» – важной оказывается не просто идея социальной и ценностно-культурной природы человека. Не меньшее значение имеет и его биологическая природа, наличие в человеке психофизиологических механизмов и оснований, без которых невозможным оказывается понимание его социального и культурного бытия. Антропология Питирима Сорокина – это интегральная антропология, которая основана не на априорном понимании человека как абстрактного носителя идеологии, как субъекта картезианского cogito, а на понимании его био-социо-культурной природы, признание которой становится все более значимым в современной культурологической мысли. В частности, говоря о человеке и человеческой личности как о факторе, от которого зависят судьбы человечества, М.С. Каган определяет человека как «био-социо-культурное существо», природа которого исторична. Культура, согласно Кагану, это «третья форма бытия, отличная и от природной, и от общественной его форм», бытие человека – это синтез [4, с. 55].
В этом контексте понятно то внимание, которое Сорокин уделял именно биологической, психофизиологической природе человека. Но биологический модус человеческого существования оказывается встроенным в зыблющееся пространство между предельными экзистенциальными состояниями. Эти предельные состояния – любовь и голод. Причем альтруистическая (созидательная) любовь представляет собой разрыв с биологическим, природным, а голод обнаруживает в человеке его вне-человеческое начало. Иными словами, промежуточное пространство для Сорокина определено ценностной вертикалью предельности альтруистической любви и предельностью витального самоощущения. Поэтому столь значимыми в его философии культуры оказываются проблемы, связанные с биологическими и экзистенциальными факторами в их взаимодействиях с собственно социальными и культурными. Связь биологического и аксиологического, биологического и субъективно-эмоционального, биологического и когнитивного – сквозная тема философии и социологии культуры П. Сорокина, и в центре ее не абстрактный субъект тоталитарной утопии, а конкретный – единичный, экзистенциальный, внутренне разрывный человек XX века. При этом собственно биологическое никогда не предстает как непосредственно данное, но всегда как опосредованное и опосредующее ценности, психические состояния, идеологии.
Как известно, начало петербургской жизни Питирима Сорокина было связано с Петербургским психоневрологическим институтом, что во многом определило его интерес к вопросам психологии и неврологии. Причем важной для Сорокина стала не столько медицинская, сколько эмоционально-аффективная жизнь человека, экзистенциальный опыт переживания социального и индивидуального бытия. Организованное совместно с И.А. Павловым Общество объективных исследований человеческого поведения стало отправным моментом дальнейшего интеллектуального движения к пониманию интегральной целостности человека, общества и культуры, к пониманию культуры как надприродного универсума. Именно тогда ключевым вопросом теории Сорокина стал один из центральных вопросов философии культуры – вопрос «культура и природа». На наш взгляд, общий философско-культурологический пафос учения Питирима Сорокина состоит в решении именно этой проблемы, средоточием которой является проблема человека.
П. Сорокин определяет социальное явление как социальную связь, имеющую «психическую природу и реализующуюся в сознании индивидов, выступая в то же время по содержанию и по продолжительности за его пределы» [11, с. 39]. Сорокин выстраивает синонимический ряд: «социальная душа», цивилизация, культура, мир ценностей – то, что является «противоположностью миру вещей, образующих объект наук о природе» [11, с. 39], выделяя при этом две стороны социального явления – «внутренне-психическую» и
Общество
Terra Humana ¹ 2’2014
«внешне-символическую» [11, с. 41]. При этом корреляция психического и символического как внешнего и внутреннего оказывается соотнесенной с определением социально-культурного универсума как триады, состоящей из значений, ценностей и норм, составляющих, с одной стороны, сферу «внешне-символического», но с другой – вырастающих из психической, внутренней жизни индивида. Собственно социокультурные явления не сводятся, согласно Сорокину, к биофизическим свойствам взаимодействующих индивидов, но и не отрываются от них: биофизическое, являясь своего рода подложкой, субстратом социокультурного, трансформируется им. Значение тем самым приобретает характер интегральной семиотической единицы, включающей в себя ценностно-нормативный, семантический, интеракционный (коммуникативный) и, что нам представляется особенно значимым, символический аспект.
Следует отметить особую значимость, которую приобретает в рассуждениях Сорокина проблема символа, притом, что символическое в его понимании представляет собой отнюдь не однозначное образование, поскольку включает в себя как собственно знаковую, семиотическую составляющую, так и в то же время – мир до-знаковых сущностей, связывающих семиотическое с психическим. К символам – «проводникам» действий индивидов – Сорокин относит, помимо языка, также музыку и живопись, деньги и орудия труда – все, в чем проявляются значения, ценности и нормы. Двойственность определения Сорокиным символа – в его когнитивной и психической, внутренней сущности – связана, на наш взгляд, со стремлением понять пространство перехода, границы человеческого – внечеловеческого, биофизического и семантического, культурного и природного. «... Компонент значения, – пишет Сорокин – трансформирует не только социокультурную природу своих носителей и людей, но также и причинные связи между ними; он создает ощутимую причинную взаимосвязь между носителями и людьми там, где на базе их биофизических свойств такая взаимозависимость не существует» [12, с. 204].
Следует отметить, что с этой точки зрения, понимание символического Сорокиным оказывается в русле американской антропологической мысли, пути которой в понимании символических форм явно разошлись с ведущими теориями начала XX века в Европе. В частности, показательную параллель к теории П. Сорокина представляет теория символа американского философа и антрополога С. Лангер. Так же, как и Э. Кассирер, понимая символ и символические формы в качестве предельного основания культуры, С. Лангер, в отличие от него, выделяет сферу эмоций – протосимволику целостных непроясненных психических состояний, поскольку «ум склонен оперировать символами, находящимися намного ниже уровня речи» [5, с. 130]. Главная символическая система – язык – возникает на основании «зацепленности за объект посредством его символа» [5, с. 122] (выделено С. Лангер – И.Ф.). Поэтому, несмотря на то, что «наш первичный мир реальности является вербальным», и «без слов наше воображение не может удерживать в уме отдельные объекты и их отношения», сам язык восходит в конечном счете к «символическому преобразованию», то есть к «экспрессивным действиям», а также, «возможно, к фантастическим страхам и веселью» [5, с. 114–115]. Возводя символику языка, основанную на интеллектуальном возбуждении, к символике экспрессивных актов, С. Лангер особое внимание уделяет страху – «побуждающей силе человеческого ума» [5, с. 142].
Иными словами, в основании символической деятельности и ее собственно когнитивно-семиотического воплощения, которым является язык, согласно Лангер, находятся предельные пограничные состояния – переживание ужасного, священного, таинственного.
В этом контексте могут быть поняты взгляды П. Сорокина на природу человеческих эмоций, которые, с одной стороны, связаны с проблемами социокультурной динамики, но с другой – представляются существенной составляющей его культурно-семиотической теории. Причем интегральное понимание человека П.А. Сорокиным уже в начале его деятельности вело его к усилению внимания к роли эмоциональных состояний в истории культуры. Исследование эмоций, все больше привлекающее к себе внимание на протяжении XX века, становится постоянно присутствующим лейтмотивом социологии Сорокина. В этой связи, видимо, следует отметить влияние теории условного рефлекса И.П. Павлова и на теоретические основания культурной и философской антропологии Сорокина, и на развитие теории эмоций уже в 70–90-е годы XX века (см., например, [6]). Естественнонаучная проблематика оказалась и одним из теоретических оснований известного проекта социальной и социально-психологической истории 60-х годов прошлого века Б.Ф. Поршнева, попытавшегося детализировать переход от условно-рефлекторной деятельности к высшим психическим функциям человека, причем доказавшего, что характер этого перехода – не плавное эволюционное движение, а катастрофический разрыв [7].
Можно утверждать, на наш взгляд, что понимание разрывности человеческой природы, разлома между предельными состояниями природного и надприродного характерно и для П. Сорокина: любовь и голод маркируют разрыв, обращая интегральное существо – человека к его крайним, за границами его сущности находящимися субстанциям, равно характерным для интегрального целого. Экзистенциальный опыт индивида оказывается областью разрыва, преодолеваемого индивидуальными усилиями индивида, катастрофически преодолевающего собственную природность.
Исследуя связи идеологии и одного из предельных экзистенциальных состояний – голодом, Сорокин обнаруживает зависимость степени идеологизации сознания от уровня питания. Функциональная связь между успехом или неуспехом идеологии и качеством питания, на первый взгляд, производит впечатление избыточной биологической детерминации социального и культурного. Однако для Сорокина характерно понимание идеологии не только как совокупности убеждений и верований, мировоззрения и понятий и представлений, «мыслимых про себя», но и их проявлений как « субвокальных и речевых рефлексов человека» ( выделено мной – И.Ф. ) [10, с. 367]. Поэтому и идеология в качестве фактора культуры и регулятора социальных отношений – а значит, и культура в целом – определена, в конечном счете, «рефлекторной» составляющей, встроена в аффективно-суггестивную жизнь человека, преодолевая ее крайности, но – в определенных исторических ситуациях – под воздействием этих крайностей возвращаясь в свое рефлекторное, доречевое, субвокальное состояние.
В частности, отчетливое проявление «рефлекторной» стороны идеологии, ее аффективная и суггестивная подоплека показана Сорокиным в его очерке о русской революции: деструктивные когнитивносемиотические процессы демонстрируют деструкцию ценностей и норм, возвращая знаковое к протосимволическому. От символа – один шаг к торжеству бессознательного, к «аффективной рациональности», от свободы – к произволу. В этой связи можно говорить об инволюции социокультурного к биологическому, показанной Сорокиным на примере событий от весны до осени 1917 года периода, который Сорокин определяет как «деструктивную» стадию в развитии революции [8]. Характерны, в частности, лексические формы, определенно свидетельствующие о семиотической деструктивности наблюдаемых Сорокиным процессов – например, «завывала толпа», «резня офицеров», «охота на жандармов и контрреволюционеров». «Было ясно, – отмечает Сорокин, описывая события первых дней революции, – что в психологии толпы, утверждающей свое “я”, просыпался не только зверь, но и откровенная человеческая глупость» [8, с. 226] (выделено мной – И.Ф.).
Методологическая роль наблюдений и выводов Сорокина обретает вторую жизнь в современной ситуации. В частности, актуализация границы природного и культурного в философском дискурсе конца XX века – ответ на вызовы современной культуры. В этой связи можно указать на работы Дж. Агамбена. Отталкиваясь от философских идей А. Кожева, Д. Агамбен говорит об инволюции человека к животному, когда, завершив развитие философской мысли, человек перестанет быть человеком, оставив себе лишь такие культурные формы как игра, любовь, искусство. В сумеречном свете «эпилога» истории, говорит Агамбен, остается безглавая фигура Акефала – «ученика чародея» или «любовника» («Человек убежал от своей головы, как приговоренный – из плена», – цитирует Агамбен статью Ж. Батая 1936 года [1, с. 15]). Идеология панэкономизма и всеобщего благосостояния становится отказом от философии как осознания «историчности» человека, обоснованной, в конечном счете, его «негативностью» – небытием или «Ничто». Агамбен пишет: «Даже одно лишь запечатление всех исторических задач – сводящихся попросту к функциям внешней или внутренней политики – во имя триумфа экономики, часто содержит сегодня некий пафос, благодаря которому сама естественная жизнь и ее благосостояние как будто бы становятся последней исторической задачей человечества» [1, с. 92]. Но отказ от «негативности» в пользу «позитивных» целей (позитивизма) и экономических потребностей становится распадом семиозиса, сворачиванием его к протосемиотическим формам – к символу.
С этой точки зрения, статья П. Сорокина «Бойня: революция 1917 года» коррели-
Общество
рует с его анализом кризиса чувственной культуры.
В свете казанного понятно движение мысли Сорокина к обоснованию ценностной природы человеческой культуры. Культура как надприродный универсум может существовать только как неразрывное, интегральное целое ценностей, значений и норм. Собственно разрыв преодолевается разумом, интеллектуальной деятельностью индивида (отсюда – роль интеллектуальной среды при формировании личности); деструкция культурного к природному (при распаде этой триады) наталкивается на встречное движение: от биологического к культуре. В частности, перестройка физической природы человека, согласно П. Сорокину, определяется значимостью альтруистической любви.
Любовь занимает особое место в антропологии эмоций П. Сорокина. В. Джеффрис определяет альтруизм любви и морали как «фокус интегральной науки» П.А. Сорокина [3, с. 14]. Внимание к этой проблематике, по мысли самого Сорокина, определено социально-историческими катастрофами XX века: «Таинственные силы истории, – пишет Сорокин, – кажется, предъявили человеку ультиматум: погибни от своих собственных рук или поднимись на более высокий моральный уровень посредством благодати творческой любви» [13, с. 122]. Обоснованная единством Любви, Истины, Красоты, «космическо-онтологическая» концепция любви как «объединяющей, интегрирующей и гармонической космической силе, которая
Список литературы Природа и культура в системе интегральной антропологии Питирима Сорокина
- Агамбен Дж. Открытое: Человек и животное. -М.: РГГУ, 2012. -348 с.
- Бауман З. Текучая современность. -СПб.: Питер, 2008. -240 с.
- Джеффрис В. Интегрализм П.А. Сорокина: новая общественная наука и реконструкция человечества//Социологические исследования. -1999, № 11. -С. 13-17.
- Каган М.С. И вновь о сущности человека//Отчуждение человека в перспективе глобализационного мира. -СПб.: Петрополис, 2001. -С. 48-67.
- Лангер С. Философия в новом ключе: Исследование символики разума, ритуала и искусства. -М.: Республика, 2000. -287 с.
- Палмер Я. Введение I. Эмоции в русской истории//Российская империя чувств: Подходы к изучению истории эмоций: Сб. статей/Под ред. Яна Палмера, Шаммы Шахадат и Марка Эли. -М.: Новое литературное обозрение, 2010. -С. 11-36.
- Поршнев Б.Ф. О начале человеческой истории. -М.: ФЭРИ-В, 2006. -634 с.
- Сорокин П.А. Бойня: революция 1917 года//Сорокин П.А. Человек. Цивилизация. Общество. -М.: Политиздат, 1992. -С. 223-256.
- Сорокин П.А. Главные тенденции нашего времени. -М.: Наука, 1997. -351 с.
- Сорокин П.А. Общедоступный учебник социологии. Статьи разных лет. -М.: Наука, 1994. -560 с.
- Сорокин П.А. Социологический этюд об основных формах общественного поведения и морали//Сорокин П.А. Человек. Цивилизация. Общество. -М.: Политиздат, 1992. -С. 32-156.
- Сорокин П.А. Структурная социология//Сорокин П.А. Человек. Цивилизация. Общество. -М.: Политиздат, 1992. -С. 156-266.
- Сорокин П.А. Таинственная энергия любви//Социологические исследования. -1991, № 8. -С. 121-137