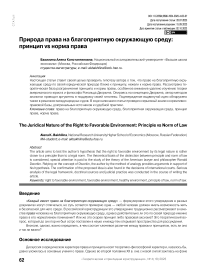Природа права на благоприятную окружающую среду: принцип vs норма права
Автор: Бахилина А. К.
Журнал: Теоретическая и прикладная юриспруденция.
Рубрика: Статьи
Статья в выпуске: 4 (18), 2023 года.
Бесплатный доступ
Настоящая статья ставит своей целью проверить гипотезу автора о том, что право на благоприятную окружающую среду по своей юридической природе ближе к принципу, нежели к норме права. Рассмотрена теоретическая база разграничения принципа и нормы правы, особенное внимание уделено изучению теории американского юриста и философа Рональда Дворкина. Опираясь на концепцию Дворкина, автор методом аналогии приводит аргументы в поддержку своей гипотезы. Подтверждение выдвинутой идеи обнаружено также в решениях международных судов. В ходе написания статьи проведен серьезный анализ нормативно-правовой базы, доктринальных источников и судебной практики.
Право на благоприятную окружающую среду, благоприятная окружающая среда, принцип права, норма права
Короткий адрес: https://sciup.org/14129385
IDR: 14129385 | DOI: 10.22394/2686-7834-2023-4-62-67
Текст научной статьи Природа права на благоприятную окружающую среду: принцип vs норма права
«Каждый имеет право на благоприятную окружающую среду» — формулировки этого утверждения в разных документах могут отличаться, но суть остается примерно одна — любой человек должен иметь возможность жить в безопасной для него среде. В российской юриспруденции это утверждение традиционно рассматривают в качестве права человека на благоприятную окружающую среду, однако действительно ли это по своей природе именно право в его нормативном понимании? Или же это скорее принцип либо правовая аксиома? Это теоретический вопрос, который до сих пор не был остро поставлен в науке и между тем открывает пространство для рассуждения .
Вначале, однако, важно определить, в чем состоит ключевое различие между правом и принципом, есть ли оно и так ли важно?
Основное исследование
Дискуссия о юридическом характере права и принципа носит теоретико-философский характер и, казалось бы, давно уложилась в основные учения о праве. Однако во второй половине XX в. она с новой силой зажглась на фоне дебатов между Г. Хартом и Р. Дворкиным1. Так, Дворкин выступил с критикой в адрес позитивизма Харта и провел, на наш взгляд, вполне аргументированную и четкую грань между правовыми принципами и нормами.
СТАТ Ь И
Теория Дворкина строится на логическом различии между принципом и нормой права, эта идея красной нитью проходит через ряд научных трудов автора. Так, анализ публикаций Дворкина позволяет выявить 4 ключевых различия между нормой и принципом2.
Первое , основополагающее, состоит в том, что принцип самобытен и может быть применен при принятии решения судом независимо от прочих условий, в то время как применение нормы всегда находится под определенными законом условиями, требует конкретных последствий. В подтверждение своей идеи Дворкин приводит известное дело из американской судебной практики. Так, ученый подчеркивает, что решение в деле3 суд принимает, опираясь, прежде всего, именно на принцип «никто не может извлечь выгоду из правонарушения», а не на правовые нормы.
Второе различие вытекает из первого и заключается, по мнению Дворкина, в том, что принципы, являясь основой судебного решения, не требуют определенных последствий. Так, правовая норма должна содержать четкие условия ее применения и предусматривать юридические последствия, которые в случае ее использования судом должны наступить.
Третье, в отличие от норм, принципы имеют свой «вес», то есть существует некая иерархия правовых принципов, и суд, в случае столкновения двух принципов, может определить, который из них в данном деле имеет наибольшее значение (хотя оба при этом остаются действующими). Такой вывод Дворкина наглядно иллюстрирует позиция Верховного суда США, который провозглашает свободу наивысшей «звездой» в американской правовой системы. Следует отметить, позитивист Дж. Раз попытался парировать данный аргумент Дворкина, ссылаясь на возможность возникновения коллизий между нормами права4, однако Дворкин в своих трудах вполне справедливо подчеркивает, что коллизия между правовыми нормами хотя и возможна, но, возникая, всегда вызывает к себе особенное внимание, приобретает статус «события» и требует соответствующего и скорого решения .
Последнее, четвертое, различие между принципом и нормой по Дворкину состоит в зависимости нормы от принципа. Так, нормы всегда проистекают от какого-либо правового принципа и имеют своей задачей обеспечение его исполнения.
По Дворкину, принципы права представляют собой отражение важнейших требований морали (честности, справедливости, равенства и т. д.), и соблюдают их не в целях достижения определенных экономических, политических или социальных последствий, а из стремления самого интерпретатора к справедливости.
В концепции Дворкина права содержатся в принципах, а правила (нормы) играют вторичную роль в их реализации. Так, суд — это форум принципов, где определяется иерархия ценностей общества. Таким образом, разграничивая принципы и нормы, ученый показывает, как сильно позитивисты порой преувеличивают значение последних, и формирует собственную, интерпретативную теорию права.
Опираясь на теорию Дворкина, можно представить, что право на благоприятную окружающую среду, по своей сути, действительно является принципом.
Следует отметить, что под принципом в данном случае мы понимаем «основную идею, базовое начало права». Этого подхода придерживаются в своих работах С. А. Васильева, В. А. Виноградов, В. Д. Мазаев. Безусловно, в теории права можно встретить целый ряд исследований, авторы которых справедливо приходят к выводу о существовании норм-принципов. Однако в рамках обозначенной выше гипотезы речь пойдет именно о «собственно принципе» права.
Итак, попробуем доказать высказанное нами предположение, основываясь на том, как право каждого на благоприятную окружающую среду закреплено на международном уровне.
Обращение к международно-правовому регулированию обусловлено тем, что именно положения международно-правовых документов стали фундаментальной основой дальнейшей рецепции права на благоприятную среду в национальные юридические системы и, пожалуй, наиболее полно отражают его суть.
Итак, в то время как большинство крупных научных работ посвящены исследованию права на благоприятную окружающую среду, ключевой документ, провозглашающий его, по своей природе является сводом правовых принципов.
Документ, о котором идет речь, — Декларация Конференции Организации Объединенных Наций по проблемам окружающей человека среды 1972 г. (далее — Стокгольмская декларация)5, именно здесь впервые было прямо сформулировано право каждого на благоприятные условия жизни в окружающей среде. И сформулировано оно
СТАТЬИ
здесь именно как принцип. Более того, декларативный характер носит и большинство других международных актов, закрепляющих исследуемое право. Так, вслед за Стокгольмской декларацией был принят целый ряд развивающих ее положения соглашений и конвенций на международно-правовом уровне. Среди них: Конвенция о трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния; Венская конвенция об охране озонового слоя; Монреальский протокол и Лондонские корректировки к нему; Договор об Антарктике и протокол к нему; Базельская конвенция о контроле за трансграничной перевозкой опасных отходов и их удалением; Лондонские руководящие принципы обмена информацией о химических веществах и международной торговле; Киотский протокол к Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата и др. Затем в Конституциях ряда государств было закреплено право каждого на благоприятную окружающую среду, а в некоторых странах (Казахстан, Швеция, Франция) даже приняты специальные экологические кодексы.
Большая часть «экологических» международных документов (например, Конвенция о биологическом разнообразии, Рио-де-Жанейро, 1992 г.), принятых после Стокгольмской декларации, носят по отношению к ней уточняющий характер. Это обстоятельство позволяет применить к исследуемому явлению четвертый аргумент Р. Дворкина о том, что нормы имеют в своем корне правовой принцип и играют по отношению к нему зависимую, уточняющую роль. Напротив, если представить, что право на благоприятную окружающую среду имеет нормативный корень, то, рассуждая по логике Дворкина, нужно представить, что существует некий правовой принцип, по отношению к которому утверждение «каждый имеет право на благоприятную окружающую среду» носит поясняющее, распространяющее значение. Однако данное право вполне самостоятельно. Опираясь на практику Европейского суда по правам человека (далее — ЕСПЧ), можно было бы предположить, что данное право является «продуктом» права на жизнь. Однако все тот же Европейский суд в равной степени применяет право на благоприятную окружающую среду и через право на жизнь (ст. 2 Европейской конвенции о по правам человека), и через право на уважение частной и семейной жизни (ст. 8 Конвенции)6, а также другие положения Конвенции. Данный факт между тем не должен быть оценен в качестве доказательства несамостоятельности и незначительности права на благоприятную окружающую среду. Так, если Европейская конвенция по правам человека (далее — ЕКПЧ) была принята в 1953 г., то право каждого на благоприятную окружающую среду сформулировано почти на четверть века позже и, следовательно, просто не могло быть отражено в ЕКПЧ. Успешное применение данного права в практике суда реализуется благодаря эволютивному толкованию Конвенции.
Помимо прочего, обозначенные выше обстоятельства позволяют соотнести право на благоприятную окружающую среду в качестве принципа с 1, 2 и 3-м аргументами Дворкина.
Так, самобытность и независимость применения принципа «каждый имеет право на благоприятную окружающую среду» от определенных законом условий можно проследить в указанных кейсах ЕСПЧ, а также решениях других международных судов.
Будучи незакрепленным в ЕКПЧ, данное право применяется и охраняется Европейским судом путем прогрессивного подхода к пониманию Конвенции и толкования других ее статей. Аналогично, несмотря на то, что в практике Международного суда ООН найти решение с прямой отсылкой к праву на благоприятную окружающую среду достаточно трудно (ввиду наличия в подобных делах жесткого экономического интереса и необходимости его урегулирования путем применения соответствующих норм), Суд ООН признает право каждого на благоприятную окружающую среду и в своих решениях опирается в том числе на данный принцип7. Знакомы подобные кейсы и международному арбитражу. Так, поддерживая идею о том, что каждый имеет право на благоприятную окружающую среду, суд в известном споре о компании Trail Smelter защищает экологические интересы общества и формулирует принцип «загрязнитель платит».
Любопытно, что в свете применения международными судами права на благоприятную окружающую среду без жесткой ссылки на конкретную норму по-новому звучит идея С. Дуглас-Скотта, который в своих исследованиях выдвинул точку зрения о том, что нормативное закрепление права на благоприятную окружающую среду вовсе не обязательно для защиты экологических интересов общества: с этой задачей вполне справляются более конкретные нормы, закрепляющие право на информацию или право на правосудие8. Интересно, что если рассматривать идею Дуглас-Скотта на практике, где право каждого на благоприятную окружающую среду — это общепризнанный принцип, то подробная нормативная регламентация данного права действительно не нужна, с этим вполне может справиться продиктованное им природоресурсное и природоохранное законодательство.
Что же касается «веса» права на благоприятную окружающую среду, представляется, что достаточно ясная иерархия в этом отношении была выстроена в практике Европейского суда по правам человека. Так, анализируя кейсы Европейского суда, можно сделать вывод о том, что если главная ценность, по мысли ЕСПЧ, — это право на жизнь, то право на благоприятную окружающую среду может быть поставлено следом, как один из элементов, необходи- мых для реализации права на жизнь. А осуществление права на благоприятную окружающую среду, в свою очередь, достигается за счет применения других принципов, в частности неприкосновенности личной жизни человека, и превалирует над экономическими интересами личности и государства. Ценность экологического интереса общества транслируется и в решениях Международного суда ООН.
СТАТ Ь И
Таким образом, опираясь на различия между принципом и нормой права, описанные в исследованиях Р. Дворкина, можно провести право каждого на благоприятную среду по критериям принципа права. Кроме того, в пользу понимания права на благоприятную окружающую среду, прежде всего, как принципа, выступает и его закрепление в документах декларативного характера, а также абстрактность данного права.
Так, если принять рассматриваемое право не за норму, а за правовой принцип, абстрактность его формулировок перестанет казаться столь критичной. И это естественно, ведь перед принципом не стоит задачи исчерпывающе урегулировать правоотношения, принцип задает общий тон.
Вместе с тем «переквалификация» права на благоприятную окружающую среду из нормы в принцип сама по себе едва ли решит текущие проблемы, возникающие на этапе применения права на благоприятную окружающую среду. Серьезным вопросом по-прежнему остается содержание права на благоприятную окружающую среду: какая среда благоприятная, какие критерии ее определяют, на что именно человек имеет право и что должно подлежать защите законом?
Более того, в науке нет единого мнения и в отношении принципов международного права. Так, например, открытой остается дискуссия о том, что следует считать «принципами международного права».
Для международного права в той же степени актуален и обозначенный выше вопрос о разграничении правовых норм и принципов. В науке на этот счет сложилась (продиктованная нормативистским подходом) точка зрения о разделении принципов и норм на нормы «высокого» и «низкого» значения, где принципы обладают более общим, широким спектром действия. Между тем, в решениях Международного суда ООН нередко можно обнаружить смешение «принципов» и «норм» — суд употребляет данные термины в качестве синонимов9. Это обстоятельство было пояснено Комиссией международного права ООН, сославшейся на то, что нормы могут именоваться «принципами» ввиду приобретения ими высокого значения и общего характера действия10. Опираясь на высказанную Комиссией международного права мысль, также можно подтвердить идею о тяготении права каждого на благоприятную окружающую среду к статусу международного принципа.
Стоит отметить, что возможность перевода данного права в ранг принципов была допущена и стремительно опровергнута в работе Эдит Браун Вайс задолго до нашего исследования. Американский исследователь международного права окружающей среды писала об отсутствии в отношении права на благоприятную окружающую среду opinio juris , что, по ее мнению, служило препятствием к пониманию данного права как «признаваемого цивилизованными нациями общего принципа»11. Между тем практика защиты права на благоприятную окружающую среду значительно расширилась после опубликования работы Вайс в 1992 г. Уже 10 лет спустя после исследования Вайс, Дина Шелтон12 гораздо увереннее говорила о праве на благоприятную окружающую среду как о признаваемом и потенциально усиливающем международные ценности праве.
Стоит отметить, что в целях сохранения природной среды в рамках Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП) проводится регулярная стратегическая и аналитическая работа; над охраной природной среды и сохранением биоразнообразия работают международные организации: Всемирный фонд дикой природы, «Гринпис»; Международный Зеленый Крест. В основе реализации программ данных организаций лежит именно принцип — «каждый имеет право на благоприятную окружающую среду ».
Все эти факты позволяют репрезентовать право на благоприятную окружающую среду не только в качестве ценности международного значения, но и ценности, широко признаваемой, что является необходимым составным элементом принципа международного права и чего, по мнению Э. Б. Вайс, недоставало праву каждого на благоприятную окружающую среду в 1992 г.
Выводы
Таким образом, идея о том, что право на благоприятную окружающую среду по своей природе ближе не к норме, а к правовому принципу, имеет право на существование и может быть доказана в рамках теории права, предложенной ученым Р. Дворкиным, а подтверждение данной гипотезы можно найти в решениях международных судов.
Представляется, что дальнейшая разработка данной идеи может поспособствовать уточнению юридической сущности права на благоприятную окружающую среду и, как следствие, развитию правового регулирования.
СТАТЬИ
Список литературы Природа права на благоприятную окружающую среду: принцип vs норма права
- Дворкин Р. О правах всерьез. М., 2004.
- Коваль С. В. Разграничение принципов и правовых норм в философии права Р. Дворкина. Вестник Моск. Ун-та. Сер. 7: Философия. 2020. № 2. С. 63-71.
- Кремнев П. П. Общепризнанные принципы общего международного права в системе российского права. Вестник Моск. ун-та. Серия 11: Право. 2018. № 6. С. 19-33.
- Ромашев Ю. С. Общие принципы права в системе международного права. Право. Журнал Высшей школы экономики, 2021. № 3. С. 148-174.
- Douglas-Scott S. Environment Rights in the EU-Participatory Democracy or Democratic Defi cit? In: Human Rights Approaches to Environment protection. eds. A. E. Boyle, M. Anderson. Oxford: Clarendon press, 1998. Pp. 177-197.
- Dworkin R. A matter of principle. N. Y., 1986a.
- Dworkin R. Freedom’s law: The moral reading of the American constitution. N. Y., 1996.
- Dworkin R. Law’s empire. Cambridge, 1986.
- Dworkin R. Social rules and legal theory. The Yale Law Journal, 1972. Vol. 81. No. 5. Pp. 855-890.
- Dworkin R. Taking rights seriously. Cambridge, 1977.
- Dworkin R. The model of rules. University of Chicago Law Review, 1967. Vol. 35. Nо. 1. Article 3. Pp. 14-46.
- Hart H. L. A. Concept of law. Second ed. N. Y., 1994.
- Hart H. L. A. The conce pt of law. Oxford, 1961.
- Hershovitz S. The end of jurisprudence. Yale Law Journal, 2015. Vol. 124. Pp. 1160-1204.
- Leiter B. Beyond the Hart / Dworkin debate: The methodology problem in jurisprudence. American Journal of Jurisprudence, 2003. Vol. 48. Pp. 17-57.
- Raz J. Legal principles and the limits of law. The Yale Law Journal, 1972. Vol. 81. No. 5. Pp. 823-854.
- Shapiro J. S. Hart - Dworkin Debate: A short guide for the perplexed. Ronald Dworkin / A. Ripstein (ed.). Cambridge, 2007. Pp. 22-55.
- Shelton D. Human Rights and the Environment: Jurisprudence of Human Rights Bodies / Joint UNEP-OHCHR Expert Seminar on Human Rights and the Environment, 14-16 January 2002. Background Paper. No. 2. University of Notre Dame. Geneva [Электронный ресурс]. URL: https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Issues/Environment/BP2_TBjurisprudence.pdf (дата обращения: 24.10.2023).
- Stavropoulos N. The Debate that never was. Harvard Law Review. 2017. Vol. 130. No. 8. Pp. 2082-2095.
- Weiss E. B. Environmental change and international law: New challenges and dimensions / Ed. by E. B. Weiss. - Tokyo, 1992.