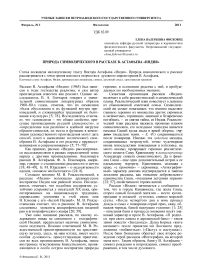Природа символического в рассказе В. Астафьева «Индия»
Автор: Фисковец Елена Валерьевна
Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu
Рубрика: Филология
Статья в выпуске: 1 (114), 2011 года.
Бесплатный доступ
Астафьев, индия, древнерусская литература, символ, духовный смысл, христианская традиция
Короткий адрес: https://sciup.org/14749845
IDR: 14749845
Текст статьи Природа символического в рассказе В. Астафьева «Индия»
Рассказ В. Астафьева «Индия» (1965) был написан в годы господства реализма, и сам автор произведения известен как реалист. Однако исследователь П. А. Гончаров говорит о значительной символизации литературных образов 1960–80-х годов, отмечая, что их символика «была обусловлена и их функцией внутри произведений, и сложившейся традицией их бытования в культуре» [5; 78]. Исследователь отмечает, что «символизм – это общее свойство, присущее произведениям русской словесности», и «определение или различие в идейной нагрузке образов-символов, их места и функции в композиции художественного произведения могут дать способ, ключ к выявлению поэтического своеобразия В. Астафьева и его родства с предшественниками и современниками» [5; 77–78]1.
Как правило, рассказ «Индия» рассматривался исследователями в рамках определенной темы наряду с другими произведениями. Анализируя рассказ В. Астафьева, Ф. А. Пономарев, например, говорит о столкновении реальности и мечты [18; 48–49], Б. М. Юдалевич – о недосягаемости идеала, «символе несбыточного» [24; 8].
Согласно мнению М. В. Рождественской, в рассказе «Индия» воплощено древнерусское восприятие Индии как райской земли. Исследователь отмечает, что подобное восприятие устойчиво сохраняется у писателей XX века, ориентированных на национальную традицию, справедливо упоминая в этой связи имя Н. Клюева с его «Белой Индией». М. В. Рождественская считает, что в рассказе В. Астафьева соединены элементы апокрифических видений рая и агиографического жанра [20; 59].
Уже само название рассказа, по своему содержанию никак не связанного с географической Индией, предполагает наличие символического подтекста. Помимо отмеченной М. В. Рождественской ориентированности на христианскую легенду, здесь, на наш взгляд, имеет место особая духовность, присутствующая практически во всех произведениях В. Астафьева, некое внутреннее чувствование Божественного, проявляющееся в особо остром восприятии природы героями, в осознании родства с ней, в пробуждаемых ею необъяснимых эмоциях.
Сюжетная организация рассказа «Индия» включает в себя реалистический и символический планы. Реалистический план повествует о девушке из обыкновенной советской семьи. Символический же сюжет показывает, что именно выделяет главную героиню из множества других скромных и незаметных, терпевших лишения и безвременно погибших, – ее святая тайна, ее Индия. Реалистический план рассказа насквозь пронизан планом символическим, его исходным эпизодом является находка Сашей куска мыла в яркой обертке, « чудом» (выделено нами. – Е. Ф .) сохранившегося после пожарища. Именно эта чудесная находка, сохранившаяся нетронутой, точно чудотворная икона (впоследствии повешенная в изголовье, на место иконы), превращает героиню реалистического сюжета Сашу Краюшкину в великомученицу Александру сюжета символического. Да и фамилия Саши – еще один дополнительный штрих к ее идеальному портрету. Краюшкина, сидящая с краю, «с кромочки» – скромница. «Агиографич-ный» характер девочки подтверждается и такими деталями рассказа, как описание добровольного одиночества Саши, «гнушания детскими играми» [22; 57], свойственного героям житий.
Рассказ «Индия» начинается с сообщения о том, что в городе Канавинске, где жила Саша, сгорел самый большой магазин – место купли-продажи и людской сутолоки, символ мирской суеты. «После четвертого дня в ночь прошел дождь и смыл с пожарища серый прах, сажу, обнажив черные, баней пахнущие головни» [1; 25] – описания бани и процесса омовения носят знаковый характер в прозе В. Астафьева. «Я родился при свете лампы в деревенской бане» – таков зачин повести «Звездопад». Душа Бориса «жить начинает» после принятия им Люсиного предложения «побаниться» («Пастух и пастушка»). После бани буквально обретает свое второе рождение герой рассказа «Фотография, на которой меня нет». Таким образом, баня у В. Астафьева – символ рождения и возрождения, символ преображения, в том числе духовного.
После дождя-омовения в поисках «сокровищ» на пожарище «грачиной стаей слетелись кана-винские ребятишки». Дети в поэтике В. Астафьева – неизменный символ непосредственности восприятия, цельности, единства с миром. В своих произведениях писатель часто показывает постижение мира детьми, подчеркивая, что именно эмоционально-чувственное, не обремененное рационалистическим сознанием восприятие мира и себя в нем есть самое естественное и правильное. Описание характера маленькой главной героини рассказа «Индия» и ее положения в мире также соответствует авторскому идеалу: «Саша всегда понимала свое положение в этом мире», «неукоснительно соблюдала требования братьев – мужчин», находкам и успехам которых «не уставала радоваться» [1; 26]. Как мы видим, в тексте мир определяется как этот , что само по себе предполагает наличие иного, того мира, к которому также принадлежала героиня и в котором для нее было предназначено место.
Первой находкой Саши на пожарище стала пуговица со звездой. Звезда в произведениях В. Астафьева, как показывает П. А. Гончаров, – символ знаковый и неоднозначный. В повести «Звездопад» это и символ души, символ жизненного пути, и одновременно – символ трагедии военного времени [5; 75]2. В более позднем рассказе «Индия» символ звезды приобретает еще одно дополнительное значение – знака потустороннего, идеального мира (звезда на чалме у принца). Еще в детстве Саша обретает этот судьбоносный знак, и в подтексте рассказа ее жизнь, таким образом, отмечается мученичеством и святостью. Полярность символа в данном случае выражается следующим образом: звезда, изображенная на знаменах армии, в рядах которой сражалась Саша, становится ее путеводной звездой в рай, и война, таким образом, актуализирует мечту героини.
Даже после того как ребята перестали ходить на пожарище, Саша приходила туда «послушать тишину», подумать о «чем-то своем», и «иногда даже слезы закипали в тихой, сжавшейся от горя душе девочки...» [1; 27].
Данное описание чувств героини отсылает нас к стихотворению Н. Гумилева «Девочка» (1917), героиня которого погружалась в такое же состояние. В обоих произведениях четко обозначен мотив горя , сопряженный с мечтой:
Иногда ты смотрела на море, А над морем сходилась гроза. И совсем настоящее горе Застилало туманом глаза.
Почему по прибрежьям безмолвным
Не взноситься дворцам золотым?
Почему по светящимся волнам
Не приходит к тебе серафим? [4]
Это стихотворение – о невозможности воплощения мечты в «мире-могиле», о тоске по этой мечте и готовности отдать за нее душу. Нам не удалось обнаружить свидетельств того, что именно данное стихотворение вдохновило В. Астафьева на написание своего рассказа, но произведения перекликаются друг с другом удивительнейшим образом. Общими являются и двойственность планов, и концептуально значимые символы – Индия, чудо, тигры, пальмы, звезда, и сам характер девочек-героинь. Мечта не находит своего воплощения у Н. Гумилева, растворяясь в мире действительности. В. Астафьев же воплощает ее посредством «уведения» из этого мира, противопоставляя гумилевскому образу жизни – душной могилы образ смерти – обретения рая.
«Домой Саша возвращалась притихшая, усталая, и все в содомном, шумном краюшкинском жилье поражались ее возрастающей доброте и покладистости и без того мягкого характера» [1; 27]. Беспричинная печаль, тоска, и одновременно – созерцательность и благость. На наш взгляд, автор таким образом попытался выразить тоску по неземному, свойственную просветленным душам. Саша, выражаясь словами из стихотворения Н. Клюева, «чаяла несказанное». И далее В. Астафьев выступает преемником традиций древнерусской литературы именно с позиций текста Н. Клюева:
Кто несказанное чает
Веря в тулупную мглу
Тот наяву обретает
Индию в красном углу [8; 388].
Однажды Саша «обретает наяву» свою «Индию» – яркая обертка от мыла стала для девочки воплощением мечты, и эту обертку позже, уже будучи взрослой, Саша повесит в изголовье, в «красный угол». Находка цветной картинки с пальмами, тигром и принцем заставляет Сашу «застыть с раскрытым от дива ртом» (курсив наш. – Е. Ф .) [1; 28]. В данном эпизоде рассказ снова перекликается со стихотворением Н. Гумилева:
День, когда ты узнала впервые,
Что есть Индия – чудо чудес, Что есть тигры и пальмы святые – Для меня этот день не исчез [6].
Аналогичный мотив воспоминания о потерянном рае мы находим в «Жизни Арсеньева»: глядя на одну из картинок своей книжки, герой романа И. А. Бунина чувствовал примерно то же, что героиня рассказа В. Астафьева: «Все это – и верблюд, и финиковая пальма, и пирамида, и жираф под пальмой кокосовой, и лев – было на фоне двух резко бьющих в глаза красок: необыкновенно яркой, густой и ровной небесной сини и ярко-желтых песков. И, боже, сколько сухого зноя, сколько солнца не только видел, но и всем своим существом чувствовал я, глядя на эту синь и эту охру, замирая от какой-то истинно эдемской радости!» (курсив наш. – Е. Ф .).
Как и в бунинском произведении, найденная Сашей картинка пестрит яркими цветами, что сообщает описанию экзотичность. Однако правдоподобнее было бы сделать «красавца» черногла- зым, чтобы ассоциация с Индией была более достоверной. Но В. Астафьев, по-видимому, преследовал иную цель и неслучайно наградил красавца глазами цвета небесной сини, усиливая ощущение чего-то неземного, и нарядил его в красный плащ, ведь, по словам К. Кокшеневой, «у Астафьева не может быть недомолвок и случайностей» [9; 18].
И. В. Куприна в своей статье «Особенности древнерусской иконописи» говорит о следующей символике красок в традиционной иконописи: «Синий – цвет величия, символизировал божественное, небесное, непостижимость тайны и глубину откровения. Красный – царский цвет, символ власти и могущества; в других случаях мог быть символом искупительной крови, мученичества. Зеленый – символизировал вечную жизнь, вечное цветение, это также цвет Духа Святого» [11]. В. Лепахин говорит о красном цвете как символе мученической крови и пламени веры [14; 601– 617]. Трактовка красного цвета как признака власти также представляется уместной для этого рассказа (плащ на плечах принца). С другой стороны, это и цвет крови, которой Саша заплатит за обретение своего рая и «родного до последней кровиночки принца» (выделено нами. – Е. Ф .).
В свете цветовых ассоциаций обращает на себя внимание и присутствие желтого цвета. Вспомним в этой связи и цвета Сашиных платьев, которые она сшила для себя: «одно с желтыми цветами, другое темно-голубое» [1; 30]. Данный отрывок рассказа может прочитываться как любовь к чему-то несказанному, неземному, к тому, чего ты пока лишен. Земная жизнь Саши – это разлука с небом и печаль по нему.
Неслучайны, на наш взгляд, и изображения пальм на обертке, ведь пальма в христианской символике означает святость и победу над смертью: «Праведник цветет, как пальма, возвышается подобно кедру на Ливане» (Пс 91:13). Это главный символ победы и триумфа [21; 327].
Разглядывая картинку, Саша находит на ней все новые детали: «звезду на чалме принца» (явная перекличка со звездой, которую нашла Саша на пожарище), «птичку или орех в ветвях пальмы» [1; 28]. Птица – высокие стремления, символ непреходящего, души, божественного проявления и воскресения [3; 18]. «Орех “знаменует” собою Христа. “Сладость Христа и божественность Его, покрытая плотью”, изображаются зерном, а крестные страдания корой» [7; 165].
Еще одна деталь – кровать, найденная на пожарище братьями Саши. Позже эту кровать, уже заржавевшую, достанут из сарая, свяжут медной проволокой, «ровно больного человека бинтами» [1; 29], и отец Саши выкрасит ее в голубой цвет. Описание этой кровати снова наводит на мысль о предназначенном Саше уделе мученицы: больной человек, бинты – намек на войну, ведь чаще всего бинтами перевязывают не больных, а раненых. Но ржавая поначалу кровать перекрашена в голубой цвет – символ небес, цвет Богородицы. На спинке кровати отец наведет белые полоски, «будто на шлагбауме» [1; 29]. Белый цвет – символ чистоты и непорочности. Шлагбаум – нечто, преграждающее дорогу, знак преждевременной смерти.
Обратимся к видению Саши после ранения: «...она увидела черный от копоти дом за железнодорожной линией на склоне уральской горы, голубую кровать с белыми, как у шлагбаума, полосками, а над изголовьем, на беленных известкою, тесаных бревнах – страну Индию» [1; 32– 33]. Железнодорожная линия и шлагбаум – преграда (жизненного) пути. Обратим внимание на цветопись и антитезу: черный от копоти дом и голубая кровать, беленые бревна; дом на склоне горы и страна Индия над изголовьем – мирская жизнь и помыслы о высшем, вознесение.
Интересна трансформация символа звезды в видении Саши. Если свою первую находку на пожарище девочка «немалыми стараниями» привела в блестящий вид, а на найденной картинке даже не сразу разглядела, то здесь «алмазная» звезда сияет «ослепляюще остро» – прослеживается мотив земных трудов и страданий и воздаяния за них. Описание звезды в повести сходно с гумилевским: она изображена как «слепящая» и «прорезающая тьму». И хотя у Н. Гумилева звезда – это сама девочка, ставшая для героя воплощением мечты, в обоих произведениях налицо интерпретация символа как посредника между реальным и идеальным мирами.
Качающиеся за спиной принца пальмы наводят на мысль о въезде Иисуса в Иерусалим, где его встречали пальмовыми ветвями. Со словами «Здравствуй, Индия!» Саша покидает этот мир и отправляется в мир иной – трагическая смерть «помогла» героине обрести свой рай, буквально «воплотить» мечту: солдат хоронит Сашу под фамилией «Индия». Само имя героини становится символом рая, ее могила не забыта, и летом на ней распускаются цветы, семена которых солдат кинул в снег (посмертное чудо).
В рассказе своеобразно изложен дуализм бытия: мирское – небесное, земное – божественное, единство противоположностей, связанных воедино в Саше, которую автор неслучайно наделил профессией связистки. Если тело девушки Саши живет в городе Канавинске, то помыслами и душой она в Индии. Если после смерти ее тело солдат хоронит в придорожном окопе, канаве, то ее дух воспаряет в рай. По замечанию В. Курбатова, В. Астафьев «не писал героев в обыкновенновоспитательном смысле. Скорее он исследовал периферию больших событий» [12; 150]. Примечательны в этой связи и названия городов в астафьевских произведениях – Канавинск («Индия»), Краесветск («Кража»), будто бы призванных подчеркнуть эту самую «периферийность». Именно способность воспарять духом, пребывая на периферии, делает Сашу Краюшкину святой.
Мироощущение героини отражает своеобразие взгляда автора на понятие божественного, святого, «запредельного» и даже на понятие «счастье». Саша обладала никому не понятной, только ей принадлежащей тайной. Подобная тайна была и у самого В. Астафьева, который поделился ею в переписке с К. Переваловым: «Однажды, будто во сне явившись, прекрасная женщина уже существует в воображении, и это награда духа нашего, его вечный свет, его надежда, большей частью неосознанная, тайная, согревающая и дарящая свет иной, священный, как его принято называть, может быть, обладание этой тайной и есть счастье человека?! <…> Выдуманная мною княгиня Оболенская, не зная того, безымянно существовала еще до ее рождения во мне и во мне же существует после ее смерти, может, будет существовать и после моей. <…> Вот видишь, какие молодые думы во мне еще живы, хотя душа устала, и порой мне кажется, что я уже столетний старик. <…> Ну вот, хотел написать тебе длинное, обстоятельное письмо, даже в индийскую или индусскую философию ударился…» [2; 332].
Из этого письма явствует, что В. Астафьев имел представление об индийской философии. Обращает на себя внимание и тот факт, что подобные мысли писатель считает «молодыми». Некоторым образом это служит доказательством того, что они посещали В. Астафьева и ранее, возможно, и в период написания рассказа «Индия». Образ идеальной женщины, тайна, обладание которой и есть счастье, соотносится с Индией Саши Краюшкиной, составляющей ее идеал и обретенное в конце концов счастье. Примечательно, что в Париже наряду с могилой И. Бунина В. Астафьев посетил и могилу княгини Оболенской, реализовав еще одну свою мечту. Таким образом, можно сказать, что в рассказе «Индия» сознание писателя объединило сразу две концепции – свои собственные понятия об идеале, о «запредельном» и непостижимом, и символические народные представления об Индии, своими корнями уходящие в устное народное творчество и древнерусскую литературу.
БЛАГОДАРНОСТЬ
Автор выражает признательность А. В. Пи-гину и И. А. Спиридоновой за помощь в написании данной статьи.
Список литературы Природа символического в рассказе В. Астафьева «Индия»
- Астафьев В. П. Индия//Бессмертный лотос: Слово об Индии. М.: Молодая гвардия, 1987. С. 25-35.
- Астафьев В. П. Собрание сочинений: В 15 т. Т. 14. Письма, 1961-1989 гг. Красноярск: ПИК «Офсет», 1998.
- Бердзенишвили И. Вопрос о распространении христианства в Абхазии по данным археологии (IV-VIII век): Автореф. дис.... канд. ист. наук. Тбилиси, 2006.
- Гумилев Н. Электронное собрание сочинений [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.gumilev.ru/verses/65/
- Гончаров П. А. Творчество В. П. Астафьева в контексте русской прозы второй половины XX века: Дис.... д-ра филол. наук. Тамбов, 2004.
- Есаулов И. А. Категория соборности в русской литературе. Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 1995. 288 с.
- Карсавин Л. П. Символизм мышления и идея миропорядка в средние века (XII-XIII века)//Карсавин Л. П. Монашество в средние века. М.: Высшая школа, 1992. С. 158-175.
- Клюев Н. Сердце Единорога. Стихотворения и поэмы. СПб.: РХГИ, 1999. 1071 с.
- Кокшенева К. У «Букера» в плену//Москва. 1994. № 3. С. 15-20.
- Кто есть кто в мире. М.: ОЛМА-ПРЕСС Образование, 2003. 1680 с.
- Куприна И. В. «Особенности древнерусской иконописи» [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.russianedu.ru/russia/about/ikon.html
- Курбатов В. Миг и вечность. Красноярск: Кн. изд-во, 1983. 166 с.
- Ланщиков А. П. Виктор Астафьев. М.: Советская Россия, 1975. 96 с.
- Лепахин В. В. Икона в русской художественной литературе. Икона и иконопочитание, иконопись и иконописцы. М.: Отчий дом, 2002. 736 с.
- Лосев А. Ф. Символ и художественное творчество//Известия АН СССР. Отделение литературы и языка. Т. ХХХ. Вып. 1. М., 1971. С. 3-13.
- Одинокого человека обступают сонмы святых. Неспешная беседа с Валентином Курбатовым//Юность. 1994. № 4. С. 13-16.
- Пантелеева А. Ф. Повесть В. Астафьева «Пастух и пастушка» (к проблеме мастерства)//Проза Астафьева (к проблеме мастерства): Межвуз. литературовед. сб. Красноярск: Изд-во Красноярского ун-та, 1990. С. 57-72.
- Пономарев Ф. А. Типология катарсических эффектов в малых формах русской прозы второй половины двадцатого века: Дис.... канд. филол. наук. М., 2007.
- Растительный мир Палестины//Библейская энциклопедия: путеводитель по Библии/Пер. с англ. И. Козырева. М.: Российское Библейское общество, 1998.
- Рождественская М. В. Библейские апокрифы в литературе и книжности Древней Руси: историко-литературное исследование: Дис.... д-ра филол. наук. СПб., 2004.
- Руденко М. После литературы: игра или молитва?//Знамя. 1996. № 6. С. 186-192.
- Федотов Г. Святые древней Руси. М.: Московский рабочий, 1990. 269 с.
- Шленская Г. Виктор Астафьев и Иван Бунин (к постановке проблемы)//Сибирские огни. 2008. № 6 [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://magazines.russ.ru/sib/2008/6/sh12.html
- Юдалевич Б. М. Традиция и мастерство. Заметки о прозе Астафьева//Проза Астафьева (к проблеме мастерства). Красноярск: Изд-во Красноярского ун-та, 1990. 133 с.