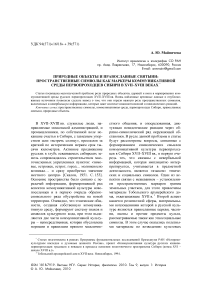Природные объекты и православные святыни: пространственные символы как маркеры коммуникативной среды первопроходцев Сибири в XVII-XVIII веках
Автор: Майничева Анна Юрьевна
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Статьи
Статья в выпуске: 1 т.9, 2010 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена малоизученной проблеме роли природных объектов, церквей и икон в маркировании коммуникативной среды русских первопроходцев XVII-XVIII вв. Вновь найденные архивные данные и опубликованные источники позволили сделать вывод о том, что они играли важную роль пространственных символов, включенных в невербальную информацию, которые дают контекст взаимоотношений и поведенческих реакций.
Пространственные символы, коммуникативная среда, первопроходцы сибири, православные святыни, природные объекты
Короткий адрес: https://sciup.org/14737211
IDR: 14737211 | УДК: 94(571)«16/18»
Текст научной статьи Природные объекты и православные святыни: пространственные символы как маркеры коммуникативной среды первопроходцев Сибири в XVII-XVIII веках
В XVII–XVIII вв. служилые люди, направляемые московской администрацией, и промышленники, по собственной воле искавшие счастья в Сибири, с завидным упорством шли «встречь солнцу», преодолев за краткий по историческим меркам срок тысячи километров. Активное продвижение русских в глубь осваиваемых сибирских земель сопровождалось строительством многочисленных укрепленных пунктов: «зимовье, острожек, острог, город… молниеносно возникал… и сразу приобретал значение местного центра» [Скалон, 1951. С. 153]. Освоение пространства было связано с передачей информации, формировавшей ряд аспектов коммуникативной культуры новопоселенцев и в первую очередь образносимвольного ряда обустройства на новой территории. Очевидно, что этнические общности, создавая собственную коммуникативную среду, формируют систему знаков и символов культурного кода, при этом выделяются две части коммуникативной культуры – непосредственная, которая обусловлена нормами и правилами прямого межлично- стного общения, и опосредованная, диктующая поведенческие реакции через образно-символический ряд окружающей обстановки. В русле данной проблемы в статье будут рассмотрены вопросы, связанные с формированием символических смыслов коммуникативной культуры первопроходцев в Сибири XVII–XVIII вв., в первую очередь тех, что связаны с невербальной информацией, которая имплицитно интерпретируется, учитывается в предметной деятельности, является «языком» этнических и социальных символов. Один из аспектов связан с межеванием – установлением пространственных маркеров границ земельных участков, для этого привлечены материалы Тобольского архиерейского дома, охватывающие XVII в. 1 Второй аспект касается религиозной сферы, материальными воплощениями которой в русской культуре являются православные церкви, часовни, иконы и прочие предметы культа, рассматриваемые также как этносоциальные символы. В этом случае оказались полезными материалы по возведению культовых
* Статья подготовлена в рамках Программы фундаментальных исследований Президиума РАН «Историкокультурное наследие и духовные ценности России», проект «Коммуникативная культура русских казаков-первопроходцев: традиции и новации в процессе освоения полиэтничного пространства Сибири (конец XVI – начало XVIII в.)».
сооружений 2 [Окладников и др., 1977. С. 136–154], включая вновь найденные данные в Тобольском архиве (ГУТО ГА в г. Тобольске. Ф. 57 – Канцелярия епископа Сибирского; ф. 156 – Архиерейский приказ и Тобольская духовная консистория).
Межевание было важно с точки зрения пользования землей, поэтому и описанию границ уделялось пристальное внимание. Из текстов переписных книг Тобольского архиерейского дома следует, что земли, принадлежавшие казакам, лежали череспо-лосно с землями пашенных крестьян, подьячих, посадских людей, архиепископа: «а с западною сторону… где огород сибирского архиепископа… А с полуденные стороны… на пашни сына боярсково Василья Тыркова да пятидесятника стрелецкого Ивана Рого-зинникова… пашни и сенные покосы по-дьячево Савина Клепикова да сына боярского Гаврила Грозина, да посацково человека Бориса Крюкова». Рядом же располагались угодья «иноземцев», например, литвинов Митки Фомина, Якунки Безноска 3. При описании земель четко указывался их собственник: «Богдановская пашня Аршинско-во, что дал вкладу к Софеи Премудрости Божии (земли, отписанные в церковное владение. – А. М.) Богдан Аршинской. За государевыми пашнями на враге возле Васильевскую пашню Тыркова. Земли непаханые. Лежит впусте... Атамана пеших казаков Третьяковская пашня Юрлова… Возле Матвеевскую пашню Старцова и возле Грозин-скую… Грозинская пашня головы конных казаков… За Курдюмкою речкою возле Третьяковскую пашню Юрлова. Стрелца Леонтьевская пашня Фомина сына Кузнецова. Земли на тринадцать четвертей, едучи к Тимофеевской деревне Маринове. Исаковская пашня Еремеева, конново казака» 4. Вполне определенно и ясно указывались пространственные ориентиры межей. Определяющими являлись такие стабильные природные объекты, как водоемы: озера, реки и ручьи: «по архиепископле стороне от озера вверх до увалу» 5, «отвели и отмежевали архиепископу Киприану под пашню в Усть-Ницинской слободе к старой его паш- не на дубровах и на еланях, возле Блук речку», «и вверх по Блуку речке мимо мост до первого ручья, чтобы шел ручей ис-под двух берез в тое ж Блук речку» 6, «за речкою Курдюмкою» 7, «к Ыртышу реке» 8. Как видно из приведенных описаний, упоминались и стороны света. Кроме того, употре-бимы и такие формулировки, как «по праву сторону в межах», «по леву сторону до пашни», «по обе стороны» 9. Одними из самых показательных ориентиров были деревья и особенности рельефа местности: «А по увалу от берез, что стоит береза на межах кудревата, от ево же архиепископли старой пашни по край елани», «а от той березы на толстую березу, что с полуденную сторону сук отросл коленом. А на ней потеси в дву ж местах. А от той березы на осиновый колок. А от того ото осинова колка к трем соснам. И на одной сосне, коя болши, потеси в дву же местех. А от тех от трех сосен прямо до заимки тюменского конного казака Замя-тенки Исакова…» 10. Подобных примеров, и с более подробными описаниями, встречается много 11. Таким образом, нейтральные изначально природные объекты, обладавшие какими-либо отличительными признаками, приобретали смысл социальных символов, игравших существенную роль во взаимоотношениях людей, регулируя права собственности.
В отличие от природных объектов, здания всегда могут рассматриваться как рукотворные пространственные маркеры коммуникативной среды, так как любое архитектурное сооружение воспринимается как символ эпохи, народа, идеологии. Такая способность свойственна архитектуре благодаря тому, что ее объекты всегда создаются для определенной жизнедеятельности, которая находится вне воспринимаемой формы, стоит за ее конкретностью [Забель-шанский и др., 1985. С. 108]. В первых русских поселениях Сибири кроме оборонительных сооружений, жилых и хозяйственных построек строили часовни и церкви, которые становились неотъемлемой частью застройки и, благодаря своеобразию своего архитектурного образа, значимыми про- странственными маркерами. Кроме того, именно в церквях оглашались важные для всего общества государевы указы. Например, для выполнения работ по возведению нового собора в Тобольске в отписке изложена просьба, чтобы царь «велети быти в соборную церковь тоболским игуменом и попом, и дьяконом, и старцом, и дворяном, и детям боярским, и стрелцом, и казаком, и литве, и немцом, и черкасом крещеным, и посадским торговым людем, и пашенным крестьяном» 12. Облик церквей был регламентирован и утверждался в Тобольской консистории, в архивах сохранилась часть документов с их описаниями. Так, переписные книги 1636 г. дают представление о построенных в Тобольске на архиепископском дворе церквях Софии Премудрости Божией и Похвалы Богородицы 13, подробная опись которых была составлена Микифором Логиновичем Веревкиным по указу царя Михаила Федоровича. Благодаря ей стали известны не только имена заказчиков, являвшихся, вероятно, авторами идеи храма – архиепископа Киприана и протопопа Ивана Иосифова, но и мастера, составившего предварительную смету материалов, и подрядчиков, а также плотников, воплотивших замысел. Опись подытоживала данные документов, подготовленных местными воеводами и князем Михаилом Темкиным-Ростовским «с товарыщи» 14.
Перечень необходимого для постройки в Тобольске соборной церкви и двора архиепископа, датированный 4 января 1621 г., был сделан по смете московского дворцового старосты плотников Первушки Исаева 15, который строил в 1613–1614 гг. новые хоромы в Кремле, в 1620 г. – новые государевы хоромы, столовую избу и постельную комнату [Воронин, 1934. С. 161]. В росписи Исаева указаны состав сооружений, основные размеры церкви и алтаря, расход строевого леса на них, а также на паперть, колокольню и архиепископский двор. Конечно, смета была приблизительная, местные условия наложили свои коррективы. В этом случае показательно, однако, что существовало нечто вроде «типового проекта», основанного на многолетнем опыте и традиции.
В отписке тобольских воевод о строительстве Софийского собора от 13 ноября 1621 г. говорится о подрядчиках: «...выбрали... в Тоболску для тово церковного дела и дворового строенья тоболских посацких лутчих людей дву человек, Пронку Кожевника да Ивашка Новоселова... и велели им... плотников наимовать...» 16. Кроме того, известно, что в свите архиепископа, состоящей из 59 человек, было два плотника из Вологды, Демка Бубенистов и Ивашка Лу-пач, имевших оклад 4 рубля, 5 четвертей овса и 5 четвертей ржи в год 17. Эти мастера должны были принимать участие в строительстве храмов и других построек двора. Имена местных плотников, нанятых подрядчиками, остались неизвестными, однако в отписке от 13 ноября 1621 г. говорилось об оглашении всем жителям, включая стрельцов, казаков, пашенных крестьян и иноземцев, государевой грамоты о поиске желающих для валки леса, доставке строительного материала и найме плотников для возведения церквей 18. Таким образом, люди всех сословий, включая казаков, могли принять участие в строительстве храма. Показательно, что часто храмы значились как «строение мирское всяких чинов людей» 19. В дозорных книгах Тюменского города и посада 1624 г. перечисляются все имеющиеся церкви: «На Тюмени же в городе церкви: церковь соборная Рождества Пречистыя, холодная деревянная, а другая во имя Николая Чудотворца да Федора Стратилата… В остроге церкви, а в них церковные строения: церковь во имя Всемилостивого Спаса, деревянная холодная, а другая во имя… Михаила Малеина, да в той же церкви придел Зосимы и Савватия, соловецких чудотворцев, строение мирское тюменских всяких чинов людей. В остроге же на посаде церковь Ильи Пророка, да в ней придел страстотерпцев Христовых Бориса и Глеба да великомучеников Флора и Лавра» 20. Нужно отметить, что дальнейшее перечисление дворов жителей показывает преобладающее население в тюменском остроге служилых людей: «а всего в остроге детей боярских и атаманов и сотников, и подьячих и церковных причетников и всяких ружни- ков 25 дворов, а в них 28 человек. Служилых людей... конных казаков... всего в остроге и за острогом 66 дворов, а в них 90 человек. Дворы пеших казаков в остроге и за острогом 38 дворов, в них 47 человек. Стрелецких дворов в остроге. За острогом 44 двора, а людей 51 человек. В остроге и за острогом на посаде пашенных крестьян 46 дворов, а людей 71 человек» 21. Можно предположить, что символика церквей с указанными посвящениями должна была воздействовать на служилых людей, была им понятной и почитаемой.
Обращает на себя внимание то, что в Вологде, откуда происходили мастера, стоившие в Тобольске, в 1568–1570 гг. был построен каменный Софийский собор. Он так же, как и Тобольский, был пятиглавым. Он составлял с колокольней, архиерейскими палатами с домовой церковью Рождества Христова и другими постройками центр города. Этот комплекс вполне мог служить образцом для строительства архиепископского двора в Тобольске. Рядом с Вологдой находился ансамбль Спасо-Прилуцкого монастыря, также типологически совпадающего с комплексом в Тобольске. В его составе были пятиглавый же Спасский собор (1537–1542 гг.), окруженный с трех сторон крытой галереей, а также колокольня, жилые и хозяйственные постройки. Собор соединялся крытым переходом с трапезной палатой, одноглавой Введенской церковью и старыми настоятельскими покоями [Города России, 1994. С. 87–89]. Все это позволяет не только считать их аналогами комплекса в Тобольске и говорить о типологическом единстве, характерном для периода XVI–XVII вв., но и рассматривать как непосредственных его предшественников, служивших образцом для тобольской резиденции Киприана.
Развернутое описание Софийского собора в Тобольске можно считать исключением, обычны же скудные сведения о постройке или освящении с простым упоминанием посвящения главного алтаря, например, доношения 1752 г. – «строить церковь во имя Петра и Павла» 22, «разрешить построить новую Преображенскую цер- ковь» 23 и подобные этим 24, и даже такие описания, как в доношении от 15 ноября 1751 г. «в с. Николаевское строится церковь в длину аршинов восьми (около 5,7 м; здесь и далее пересчет в метрическую систему наш. – А. М.), в ширину аршинов четырех (около 2,8 м), в высоту 6 аршин (около 4,3 м), вершена» 25 (т. е. имеет главы) практически единичны. Поэтому, учитывая особенности источников, имеет смысл обратиться к символам, информация о которых заключена в таких сообщениях, как «в городе Березове близ памятной Спасской церкви для зимнего служения деревянная святая церковь о двумя пределов во имя великомученика Димитрия Солунского и благовест-ных страстотерпцев Бориса и Глеба построена» 26, т. е. сведения о посвящении церквей, связанных со святым образом, для которого учреждался престол.
В коммуникативной культуре кроме самих церковных зданий немалое значение имели принесенные с отрядом казаков образа, хоругви, штандарты, памятные и чудотворные иконы, а также иконостасы, составлявшие установленные для новых территорий культы. Так, известно, что в Софийском соборе Тобольска хранились «две иконы пядницы» 27, т. е. размером в одну пядь – около 18 см. На одной – образ Живоначальной Троицы, на другой – Николая Чудотворца. Обе – «поставленье … от взятья с начала Сибири Ермака с товары-щи» 28. В с. Абый (Якутия) до 1930-х гг. хранилось знамя-штандарт землепроходцев XVII в., о чем свидетельствует фотография, опубликованная А. Л. Биркенгофом в книге [Биркенгоф, 1972. Вклейка]. Для верующих иконы и прочие предметы культа подразумевают вторичность своих материальных свойств и первичность символьной составляющей. Их влияние призвано распространяться на значительные территории, охватывая умы и чувства прихожан, стремящихся найти в святых образах защиту и покровительство, которые, вместе с тем, служат маркером религиозной и этнической принадлежности.
-
23 Там же. Л. 58.
-
24 Там же. Д. 1114–2951.
-
25 Там же. Д. 1285. Л. 2.
-
26 Там же. Д. 1185. Л. 5.
-
27 Тобольский архиерейский дом… С. 41.
-
28 Там же. С. 42.
Судя по материалам Справочной книги Тобольской епархии 1913 г., в храмах, построенных в XVII в. и сохранившихся к началу XX в., было 5 престолов: во имя Богоявления Господня, св. Иоанна Златоуста, Владимирской иконы Божией Матери, св. великомученицы Варвары, Софии Премудрости Божией 29. Это означает, что они были из числа первых официально утвержденных православных культов в Тобольском регионе. Три последних посвящения более не учреждались.
В церквях, возведенных в XVIII в., список наименований престолов значительно расширился – более чем в 20 раз. Кроме престолов во имя святых и святых икон, он включал престолы во имя Воскресения Господня, священных событий, отмечаемых во время всех двунадесятых переходящих праздников, Великих праздников (исключая посвящение во имя Обрезания Господня и памяти св. Василия Великого) и двунадесятых непереходящих праздников (кроме престола во имя Богоявления, который уже существовал в XVII в.). Всего было 103 престола. К числу посвящений, появившихся в XVIII в., можно отнести престолы во имя преп. Антония и Феодосия Киевопечерских Чудотворцев (к XX в. их было два), преп. Нила Столбенского (1), преп. Феодосия Великого (1), св. Авраамия Затворника (1), св. Андрея Стратилата (1), св. вмч. Иоанна Воина (2), св. вмч. Федора Стратилата (1), св. Зосимы и Савватия (1), св. Иоанна Милостивого (1), св. Семи отроков Ефесских (1), св. Симеона Столпника (1), св. Митрофана Воронежского (1).
В церквях размещались иконы согласно православному чину. Уже в XVII в. в тобольском Софийском соборном храме иконостас имел четыре ряда (развитый иконостас пятирядный): нижний – местный, выше располагались деисусный ряд «да в тябле (полке с иконами. – А. М.) Деисус, дватцеть две иконы», «да в другом тябле Владычных праздников дватцеть три иконы» 30. Пророческий и праотеческий ряды были совмещены: «да на третьем тябле пророки и праотцы» 31. Судя по описанию, иконостас был тяблового типа с перемычками: «а у местных образов и в деисусе, и в праздниках, и в пророцех меж всякого святого вставлены деревца точеные, окрашены киноварем» 32. Вполне возможно, что это описание показывает нам каркасный иконостас. Между образами праотцев располагались деревянные «херувими и серафими…, золочены двое-лишним золотом да листовым серебром, на веретенцах на железных» 33. И оформление иконостаса, и оклады икон, и все убранство собора было пышным, цветным, с позолотой, серебрением, драгоценными камнями и жемчугом.
В церквях рангом ниже, иконы обычно заполняли местный ряд, окружавший царские врата, и деисусный ряд тяблового иконостаса. В деревянной церкви в селе на реке Тавда были иконы местного ряда Живоначальной Троицы, Константина и Елены, первомученника Стефана, а также крест «благославящей» 34. В Усть-Ницинской слободе в Троицкой церкви был местный ряд с иконами Живоначальной Троицы, Николая Чудотворца, Фрола и Лавра, в приделе также находилась икона свт. Николая. В деи-сусном ряду стояло одиннадцать икон. Царские врата заменяла «запона» (занавес) с нанесенным рисунком 35.
В 1700 г. была основана церковь Спаса Нерукотворного образа в Зашиверском остроге. История ее существования весьма показательна, поскольку она прошла через все этапы существования исчезнувшего поселения, основанного казаками, – от острога до упраздненного города, и была внимательно изучена [Окладников и др., 1977; Курилов, Майничева, 2003]. Однако один из аспектов исследователями был упущен – это состав иконостаса, а значит, и символический ряд коммуникативной среды. В 1891 г. священник Алексей Бердников составил по заданию Императорской Академии художеств метрику – описание церкви в форме ответов на вопросы [Окладников и др., 1977. С. 136–154]. Он пишет: «… по своему положению острога г. Зашиверск, … был местом столкновений казаков с туземцами до и после постройки здесь Храма» [Там же. С. 148]. Анализ метрики показал, что иконостас тяблового типа занимал всю восточную стену церкви. После упразднения Зашивер-ска в Индигирскую церковь были вывезены иконы, которые составляли в Спасской церкви три ряда икон – местный, деисусный и праздничный. В силу небольшого размера алтаря двустворчатые царские врата были невелики и находились смежно с дверью в жертвенник, между ними располагались икона Богоматери и чтимая в приходе икона, предположительно – свт. Николая или Спаса Нерукотворного образа (1778 г.; здесь и далее указан год, помеченный на окладе, что позволяет говорить лишь о времени его изготовления), составляющие местный ряд. В Индигирской церкви А. Бердников нашел также вывезенные иконы Божьей матери Одигитрии (1783 г.) и Знамения, возможно, что одна из них входила в этот ряд.
Справа от царских врат зашиверской церкви размещалась икона Спасителя. На северной двери – икона св. Архистратига Михаила. На цельных полотнищах царских врат – образы св. Василия Великого и св. Иоанна Златоуста. Над царскими вратами находилось изображение Саваофа на доске с ангелами по бокам. На дверцах врат вверху – икона Благовещения. Согласно канону в деисусном ряду в строгом порядке располагались иконы Святителей, св. Иоанна Златоуста, св. Апостола Петра, св. Архангела Гавриила, Богоматери, Христа на престоле, св. Иоанна Крестителя, св. Архангела Михаила, св. Апостола Павла, св. Василия Великого, Святителей. Из этого перечня в Индигирской церкви сохранилась икона Всемилостивого Спаса на холсте. Одна из двух икон свт. Николая (1782 г.) была там же, другая, 1794 г., перевезена в Мом-скую Николаевскую церковь. Предположительно, именно ее казаки принесли с собой при основании Зашиверска.
Праздничный ряд составляла икона две-надесяти праздников с изображением в середине образа Спаса (1775 г.), как указано в метрике Бердникова, длиной 7 аршин (4,97 м) и шириной 7 вершков (31,15 см). Деревянный жертвенник был устроен в одном помещении с алтарем, его высота около одного аршина 5,5 вершков (95,5 см), ширина – 13 вершков (57,9 см). Над восточным окном алтарной части находилась написанная на доске икона Богоматери, «какой ея Чудотворной иконы подобие по ветхости определит трудно» [Окладников и др., 1977. С. 147]. Кроме того, в церкви было изображение Страшного суда на холсте, длиной 2,5 аршина (1,78 м), шириной 1,75 аршина (1,3 м).
К моменту осмотра А. Бердниковым церкви, она находилась в плачевном состоянии, поэтому он заключил, что «дальнейшее сохранение не только икон, находящихся в храме, не обеспечено, но даже и сохранение самого здания Церкви… Инородцы же едва ли согласились бы построить на месте Храма в память Церкви небольшую часовню во имя Спаса» [Там же. С. 148], как это было принято в православии. В случае утраты здания церкви, что было нередким явлением из-за частоты пожаров, место антиминса должно быть сохранено либо сооружением храма, либо постройкой часовни. Среди многочисленных прошений в Тобольскую Консисторию можно назвать несколько. Так, например, были поданы прошения о постройке церквей на место сгоревшей в 1726 г. церкви Спаса Нерукотворного образа 36, в 1729 г. деревянной Ильинской церкви в Катайском остроге 37, в 1744 г. церкви на подворье Туруханского монастыря 38, в 1750 г. Егорьевской Покровской церкви в Шмаковском селе Усть-Суерской слободы Царевогородищенского заказа 39. В 1752 г. был подан рапорт о разрешении поставить на Бегишевом острове на месте сгоревшей в 1751 г. церкви св. Троицы часовню 40.
Кроме образов, составлявших иконостас, в церквях хранились памятные иконы. В Соборо-Воскресенской церкви г. Березова (заложен в 1787 г., освящен в 1792 г.) хранились две святыни, имевшие историческое значение: икона Архистратига Михаила и икона Николая Чудотворца, которую принесли казаки, посланные в 1592 г. для основания города 41. В местном ряду иконостаса Богородице-Рождественской церкви (1771 г.) Березова находилась икона Божьей Матери Скоропослушницы (22 ноября), чествовавшаяся с самого основания храма 42. В приходе церкви Тавдинской слободы (1775 г.) – иконы пророка Илии и Божией Матери «Достойно есть» (24 июля) 43.
Причины появления некоторых культов в Сибири можно установить с большой степенью достоверности. Так, образ Софии Премудрости Слова Божия, являвшейся одной из новгородских святынь, несомненно, связан с личностью Киприана (Старорусен-кова), который до посвящения в 1620 г. в сан архиепископа Тобольского и Сибирского, был архимандритом Новгородского Ху-тынского монастыря. Он избрал прославле- ние святынь Новгорода одним из главных принципов своей идейной политики. Кроме посвящения соборного храма Софии он освятил церковь в крупнейшем мужском Успенском монастыре во имя Знамения Богородицы «яже в Великом Новгороде» 44. С именем Киприана связана и икона Варлаама Хутынского, также святого новгородской земли, судя по документам, более ни в одном из сибирских храмов не упоминавшаяся. Иконы преподобного Михаила Ма-леина представляют образ «государева ангела» Михаила Федоровича, царствовавшего в 1613–1645 гг. Так, в Софийском соборе Тобольска хранилась икона-пядница прп. Михаила Малеина 45. А в Тюменском остроге стояла церковь «во имя государева царева и великого князя Михаила Федоровича ангела и преподобного отца Михаила Малеина» 46. Для принесенной в Тобольск казаками иконы Живоначальной Троицы была учреждена церковь, из которой при Киприане эта святыня была передана в Софийский собор. Почитание св. Николая было повсеместно распространено в сибирских городах, что можно несколько огрублено объяснить тем, что он считался покровителем путешествующих, моряков, воинов (подробнее об этом см.: [Майничева, 2005. С. 48–64], что для первопоселенцев Сибири было весьма актуально.
Таким образом, в коммуникативной среде первопроходцев XVII–XVIII вв. природные объекты и православные святыни, включая церковные здания и иконы, играли важную роль пространственных символов, включенных в невербальную информацию, которые давали контекст взаимоотношений и поведенческих реакций. Природные объекты, приобретая в межевании земель функцию пространственных социальных символов, маркировали не только ориентировку в пространстве, но и выступали регуляторами имущественных отношений, позволяли упорядочить правовой аспект коммуникативной культуры. Православные святыни создавали психологическую комфортность пребывания на новых землях, благодаря воспроизводству уже знакомых символов в посвящениях церквей и известных культах, обеспечивавших православным ощущения причастности к жизни всей страны, надежности и покровительства со стороны высших сил.
NATURAL OBJECTS AND ORTHODOX SHRINES: THE SPATIAL CHARACTER AS MARKERS OF COMMUNICATIVE ENVIRONMENT OF SIBERIAN PIONEERS IN THE XVII–XVIII CENTURIES