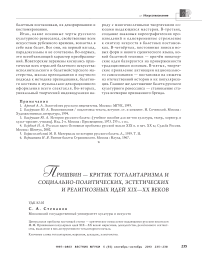Пришвин - критик тоталитаризма и социально-политических, эстетических и религиозных идей XIX-ХХ веков
Автор: Степанов Сергей Александрович
Журнал: Вестник Московского государственного университета культуры и искусств @vestnik-mguki
Рубрика: Искусствознание
Статья в выпуске: 5 (55), 2013 года.
Бесплатный доступ
Центральная проблема настоящей статьи - критическое осмысление выдающимся русским писателем М. М. Пришвиным популярных идей XIX-ХХ веков: марксизма, декадентства, религиозного сектантства, выделение в них деструктивного тоталитарного начала.
Тоталитаризм, марксизм, декаданс, хлыстовство
Короткий адрес: https://sciup.org/14489613
IDR: 14489613 | УДК: 82.02
Текст научной статьи Пришвин - критик тоталитаризма и социально-политических, эстетических и религиозных идей XIX-ХХ веков
михаил михайлович Пришвин (1873—1954) известен, прежде всего, как один из лучших в отечественной литературе певцов русской природы. Однако это основополагающее для себя направление писатель выделил далеко не сразу. личностное и творческое формирование Пришвина представляет большой интерес. В детстве воображением будущего писателя завладели несколько фольклорных образов. Самый значимый из них — сказочная красавица марья моревна, некий высший символ красоты, доброты, мудрости и женственности. Следует отметить, что в культуре рубежа XiX—ХХ веков такого рода идеальный женский образ-символ встречался неоднократно. Выделим здесь Софию В. С. Соловьёва, являющуюся вольной трактовкой канонического христианского образа Софии Премудрости Божией. Вспомним также Прекрасную даму а. а. Блока, преломление Софии Соловьёва в контексте культуры средневековой Европы. Пришвин же создал аналогичный образ на материале русского фольклора.
Выделим ещё два фольклорных образа, которые впитал Пришвин в детстве и пронёс через всю жизнь. Это кощей, сказочный оппонент красавицы марьи моревны, символ всего злого, мрачного и косного в жизни, и неизведанная сказочная земля азия, некое воплощение земного рая. В автобиографическом романе «кащеева цепь» Пришвин определяет годы детства и юности, период личностного и творческого становления, как преодоление звеньев кащеевой цепи на пути к сказочной земле азии. Оберегает же его на этом пути прекрасная марья моревна: «… Сладко спит победитель всех страхов на белой постели марьи моревны. Несёт по облакам светлого мальчика Сикстинская прекрасная дама. Смотрят с голубых полей все отцы от адама с новой и вечной надеждой: “Не он ли тот мальчик, победитель всех страхов, снимет с них когда-нибудь кащееву цепь?!”» [7, с. 53].
В качестве звеньев кащеевой цепи выступают, прежде всего, популярные социальнополитические, эстетические и религиозные идеи XiX—ХХ веков, принявшие, по объективной оценке м. м. Пришвина, тоталитарный характер. Это марксизм, декадентство и учение ортодоксальных религиозных сект.
В юности Пришвин, как и очень многие его сверстники, всерьёз увлекался марксизмом, принимал участие в революционной работе. В идеалах этого учения молодой человек увидел реальное воплощение воспринятых им в детстве сказочных образов. Позднее он писал, что под влиянием марксистских идей «сказка об азии обратилась в сказку о светлом будущем, образ же сказочной красавицы марьи моревны трансформировался в образ чистой и прекрасной Женщины будущего». Пришвин вспоминал, как он и его товарищи по революционному кружку, очарованные чистотой Женщины будущего, до того довели агитируемых ими рижских рабочих, что первое активное выступление рижан на- чалось с погрома публичных домов [8, с. 65, 67].
Однако вскоре наступило разочарование, что также было для поколения рубежа XiX—ХХ веков явлением распространённым. Вспомним в связи с этим представителей легального марксизма Н. а. Бердяева и С. Н. Булгакова, ставших религиозными философами. за высокими идеями Пришвин заметил черты ограниченного тоталитаризма, проявляющиеся, в частности, в некоем обожествлении основополагающих начал светлого будущего и справедливого общества. Увлечение какой-либо тоталитарной идеей, по убеждению Пришвина, обедняет человека, мешает восприятию жизни во всех её проявлениях.
По этой же причине писатель позднее отверг идеи декадентов. декадентское мировоззрение (декаданс), заключающееся прежде всего в пессимистическом восприятии окружающей действительности и внимании к мистическому началу, было очень популярно на рубеже XiX—ХХ веков. декаданс часто выделяют как основу сформировавшихся в тот период так называемых анти-реалистических течений в искусстве: символизм, акмеизм, футуризм. (Отметим, что это относительно объективно лишь в связи с символизмом.) Появление идей декаданса во многом связано с кризисом почти культового во второй половине XiX века учения позитивизма, от которого много почерпнул марксизм. Разочаровавшись в марксизме, Пришвин некоторое время был близок к кругу декадентов, посещал их собрания в Петербурге. Но вскоре и в декадансе ему открылось тоталитарное начало, не менее сильное, нежели в марксизме. В присущей декадентам, помимо выделенной выше абсолютизации своей личности, Пришвин увидел аналог марксистской абсолютизации общества. И вновь был сделан выбор в пользу широкого и свободного мировосприятия: «Их “я” — бумажный бог, моё “я” — общемировое, общечеловеческое» [5, с. 94].
Последнее звено кащеевой цепи — учение секты хлыстов, достаточно популярное у русской интеллигенции начала ХХ века. Пришвина в хлыстовстве привлекли поиск и бунтарство, отсутствующие в каноническом православии: «Хлыстовство всё в движении, всё в искании… Самое главное отличие хлыста от православного, на мой взгляд, состоит в том, что для православного Христос один раз воплотился, для хлыста этого Христа воплощённого не было; в мироощущении православного Христос был, и мир спасён им раз навсегда, для хлыста мир не спасён, а нужно сделать личное усилие для спасения от мира, который пребывает в состоянии неподвижности и косности. Православие — покой и смирение, хлыстовство — движение, внутреннее строительство и гордость» [2, с. 582].
Вскоре Пришвин заметил, что из трёх выделенных им выше основ хлыстовства доминирующей является гордость, которая, в итоге, перерастает в тоталитарное обожествление своей личности, очень близкое к декадентскому: «я видел там, как наивная народная вера в Бога исчезала у простых людей и заменялась верой в божественность своего личного “я”, и как это “я” совершенно так же, как у наших декадентов, не достигая высшего “я”, равного “мы”, где-то застревало» [2, с. 583]. Писатель пришёл к выводу, что хлыстовство есть «страшный двойник православия, подземная река, уводящая лоно спокойных вод православия в тёмное будущее» [2, с. 583].
Воплощение своих идеалов и прекрасной сказочной земли азии, и высокой красоты марьи моревны Пришвин нашёл в родной природе, которую стал выделять как некое духовное первоначало, как высшее совершенство. завершая автобиографический роман «кащеева цепь», он писал: «…земля моя усеяна цветами, тропинка вьётся по ней, как будто нет и конца ароматному лугу. я художник и служу красоте. я призван украсить наш путь…» [7, с. 483].
В зрелые годы Пришвин пережил потрясения, связанные с событиями Октябрьской революции 1917 года. Несмотря на то, что писатель остался в родной стране и продол- жил работу в отечественной литературе, революционные процессы он подверг резкой критике. Пришвин постоянно подчёркивал, что выделенное им много ранее тоталитарное начало в коммунистической идеологии при своём реальном воплощении принесло кровавую вакханалию и подавление человеческой личности. Причём, наряду с деструктивными началами марксизма, в революционных процессах иногда подспудно проявлялись аналогичные начала и других идей, когда-то отвергнутых Пришвиным из-за тоталитаризма.
Наиболее полно критическое восприятие событий и процессов революции Пришвин сформулировал в статье 1918 года «Большевик из Балаганчика», ставшей ответом на статью а. а. Блока «Интеллигенция и революция». Блок, как известно, революцию искренне приветствовал. В названной статье он сравнивал последнюю с бурным потоком, с грозовым вихрем, который пусть несёт разрушение, но при этом несёт и нечто великое. В связи с этим Блок призывал русскую интеллигенцию «всем сердцем, всей душой слушать прекрасную музыку революции» [1, с. 116].
Статья «Интеллигенция и революция» вызвала протест у многих представителей русской литературы, среди которых был и Пришвин. В статье «Большевик из Балаганчика» он определяет революцию как кипящий бесовский чан, в котором варится Бессловесное. Блок же с чувством кающегося барина призывает всех встать на самый край этого чана и слушать прекрасную му- зыку революции. Пришвин вспоминает, что Блок в прошлом также проявлял интерес к учению хлыстов, которые призывали броситься в их чан и воскреснуть вождём. Блок спрашивал: «а моя личность?» — «Ответа не было из чана, как не будет ответа и из нынешнего революционного чана…» [3].
В статье «голубое знамя» Пришвин определяет революционные события как некое безумное шествие, где «безумный впереди, пьяный позади шествуют в странном обманном согласии» [4].
Отвергнутое Пришвиным тоталитарное обожествление основополагающих начал учения после победы революции зачастую стало принимать формы уродливого идолопоклонства. В дневнике за 1920-й год писатель рассказывает, как в его родном Ельце установили на центральной площади саженую голову маркса, «идолище поганое», и служат вокруг этого идолища страшные мистерии: «…Выходят к голове ораторы и произносят речи, почти всегда завершающиеся словами “сметём, раздавим”. Оркестр после каждого “сметём, раздавим” играет “марсельезу”…» [6, с. 67].
В заключение заметим, что критическая оценка Пришвиным выделенных в статье социально-политических, эстетических и религиозных идей, при невозможности исключительно негативного отношения к ним, является адекватной и объективной. Это, как отмечалось выше, было подтверждено дальнейшими историческими событиями ХХ века.