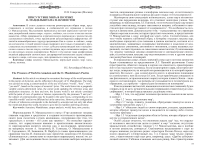Присутствие мира в поэтике О. Мандельштама и акмеистов
Автор: Северская Ольга Игоревна
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Материалы конференции "Мандельштам и его время"
Статья в выпуске: 1 (32), 2015 года.
Бесплатный доступ
В статье делается попытка реконструкции образа мира, представленного в поэтике акмеизма, и особенностей его отражения в поэзии О. Мандельштама. Исследование проводилось методом корпусного контент-анализа употреблений лексем «мир», «здесь», «сейчас», «я» и «ты» в текстах поэтов-акмеистов. «Мир» превращается в прагматическую переменную с контекстно-обусловленным значением, точку преломления актуализируемых референтных областей и взаимообратимых структур предикации. Как и «здесь» и «сейчас», «мир» не соотносится с точкой зрения только говорящего или только слушающего, представленных местоимениями «я» и «ты»: субъекты коммуникации могут находиться как в одном и том же локусе, соответствующем двум «возможным мирам», так и в двух разных локусах одновременно. Вместе с тем именно такая конфигурация индексов референции соответствует декларируемой акмеистами задаче говорить не просто о мире, а об этом мире, дать проявиться и зазвучать ему самому.
Акмеизм, мандельштам, корпусный анализ, мир, здесь, сейчас, поэтика
Короткий адрес: https://sciup.org/14914483
IDR: 14914483
Текст научной статьи Присутствие мира в поэтике О. Мандельштама и акмеистов
Мироощущение О. Мандельштам в статье «Утро акмеизма» называл главным «орудием и средством» в создании поэтического произведения, своего рода «молотком в руках каменщика», подчеркивая при этом, что «реальность в поэзии - это слово как таковое»1. Это позволяет предположить, что «краеугольным камнем» в архитектонике акмеистического мироощущения является лексема мир, и исследование, проведенное на материале поэзии А. Ахматовой, Н. Гумилева, О. Мандельштама и С. Городецкого, М. Зенкевича, В. Нарбута (а также привлекавшихся для сравнения текстов И. Анненского как «предтечи» акмеизма и М. Кузмина, сближающегося с акмеистами по некоторым параметрам), вполне это доказывает. (Для исследования была сделана сплошная выборка микрокон- текстов, включающих разные словоформы лексемы мир, из поэтического подкорпуса Национального корпуса русского языка: 2.
Несмотря на свою смысловую полновесность, слово мир в поэзии выступает как переменная величина, что отмечают некоторые ученые. Так, например, по наблюдениям Л.Г. Пановой, «в поэтическом языке мир можно уподобить вместилищу, которое наполняется вещами, событиями и качества которого полностью зависят от содержимого»3. Эта особенность осознается и акмеистами. Доказательство тому - и рассыпанные по страницам образы мира как полости, которую предстоит наполнить, и представление О. Мандельштама о мире, который как череп глубок. Соответственно, для того чтобы выявить глубинный образ, к которому отсылает лексема мир, необходимо определить а) ее значение в данном контексте, соотнеся его с каноническим, задаваемым словарными значениями и смыслами ее контекстуальных синонимов, антонимов и гипонимов, а также языковых выражений, соответствующих ее смысловым валентностям; б) включающие эту лексему значимые лексико-семантические и синтаксические оппозиции; в) соответствия лексемы мир местоимениям я и ты и другим индексам межсубъектных отношений.
В определении самых общих значений слова мир в поэтике акмеистов будем основываться на предложенном Л.Г. Пановой различении Света (пространства, обжитого людьми и хорошо им известного, ориентированного и на отдельного человека), Земли (планетарного шара, на котором живут люди, поверхности, на которой они размещаются и по которой перемещаются), Вселенной - как «совокупности всего» в архаичном понимании (в соответствии с ним Вселенная и Свет, Земля практически совпадают) и как физического, астрономического мира (в котором планета Земля - лишь одна из составляющих), чьи размеры не укладываются в человеческом воображении, а устройство - превосходит возможности понимания4.
В исследовании частностей, касающихся контекстных значений, будем опираться на ее же (с незначительными поправками) семантическую классификацию5, в которой представлены следующие типы:
-
- Мир 1.1 ‘все, что окружает человека при жизни и мыслится как целое и единое’;
-
- Мир 1.2 ‘люди, населяющие мир’;
-
- Мир 1.3 ‘звезда, планета, галактика, образующая замкнутое целое и устроенная наподобие мира 1.Г ;
-
- Мир 1.4 ‘общество людей со своим порядком, укладом, традициями, которое образует замкнутое целое и выделяется по какому-либо отличительному признаку’;
-
- Мир 1.5 ‘отдельная однородная область бытия, которая образует замкнутое и упорядоченное целое’.
Особо следует отметить, что омонимия лексем мир1 ‘все, что окружает человека и мыслится как целое и единое’ и мир2 ‘согласие, отсутствие вражды/покой, спокойствие, тишина’ у О. Мандельштама, как и вообще в поэзии акмеистов, снимается6. Однозначные высказывания о мире во втором значении достаточно редки: «простерла Россия Пальму мира над полем сраженья!» («Поруганный лес, 1»), Гораздо чаще трудно определить, о каком именно мире идет речь, например, здесь: «Другие себя революцией связали: Гибкими клинками молодых рапир, Как странствующие рыцари в сумрачном зале, Они сражаются за грядущий мир» («Молодая гвардия»), -революция, клинки рапир, сражающиеся рыцари - все это указывает на мир2, однако речь и о мире1, точнее, об изменении его состояния в будущем. А в следующем примере: «И я в размолвке с миром, с волей» («Люблю морозное дыханье...»), - состояние вражды с миром1 усугубляется отсутствием мира2, покоя, представление о котором имплицируется аллюзией к пушкинской строке: «На свете счастья нет, но есть покой и воля». Таким образом, все, что касается мира2, оказывается справедливым и для мира1.
Не прорабатывая в деталях космологии О. Мандельштама (детальный анализ, на который можно ориентироваться, предпринимая подобные исследования, приводит Л.Г. Панова, определяя космологию как «сумму представлений о мироздании, извлеченную из разных текстов, а также отдельные рассуждения об этом внутри одного текста»7 и группы в целом, заметим, что в мандельштамовской поэтике лексема мир принимает все из указанных выше общих синонимичных значений:
-
- Свет; «Кто по-крестьянски, сын фламандца, Мир пригласил на ритурнель...?» («Ода Бетховену»);
-
- Земля: «Опять войны разноголосица На древних плоскогорьях мира.. . («Опять войны разноголосица...»); земной оси соответствует мира ось («Ода»);
-
- Вселенная, соизмеримая с человеком: «Все в мире переплетено Моею собственной рукою...» («Бесшумное веретено...»);
-
- Вселенная, превосходящая человека: «Мир начинался, страшен и велик. ..» («Мир начинался...»).
Не избегает О. Мандельштам, как и акмеисты в целом, и традиционного противопоставления мира дольнего - горнему; «На дольний мир глядит сквозь облак хмурый Над Форумом огромная луна...» («Рим»), сопоставляя при этом дольнему, земному миру также мир подземный («Шахтеры Ньюкэстля») и мир подводный («Ирландские холмы»); значимой для него оказывается и оппозиция «мир сей» и «мир тот», и «настоящая с таинственным миром связь» («Я вздрагиваю от холода...»). При этом мир зачастую располагается у О. Мандельштама в диапазоне между жизнью и смертью, ср.: «Я в этой жизни жажду только мира» («Я не увижу знаменитой “Федры”...») и «И пред самой кончиною мира Будут жаворонки звенеть» («Чтоб, приятель ветра и капель...»). А границы этого и других, иных миров, хоть и существуют, оказываются взаимопроницаемыми, ср.: «Мощная завеса Нас отделяет от другого мира; Глубокими морщинами волнуя, Меж ним и нами занавес лежит» («Я не увижу знаменитой “Федры”...») и «Но в порывах ткани беспредельно И мирами вызвано иными - Только то, что создано землею; Длинные трепещущие нити» («На пальмовой верхушке»).
Анализ конкретных значений, которые может иметь лексема мир, начнем с наиболее общего: мир 1.1. ‘все, что окружает человека при жизни и мыслится как целое и единое’. Примеры такого употребления можно найти у всех поэтов, как и выражения весь мир, например, у Н. Гумилева: «Весь мир необитаем, неясен он уму» («Почтовый чиновник»), и целый мир, в частности, у О. Мандельштама, который о целостности говорит чаще других: «Взят в руки целый мир, как яблоко простое» («Вот дароносица...»);
«От мира целого Ты далека...» («Нежнее нежного...»). Целый и весь в определении мира не являются полными синонимами: первое прилагательное указывает на недискретный объект, второе же может относиться и к дискретному множеству, состоящему из отдельных объектов. Таким объектом у О. Мандельштама может быть, скажем, некий внутренний мир, существующий во внешнем; «Наш внутренний прекрасный мир Сметался с прахом черствым...» («Война шершавою рукой...»), или же особая область всего мира; «весь христианский мир» («Коронование Людовика»),
У многих акмеистов, говоря словами С. Городецкого, «сердце склоняется миром явлений все бытие исчерпать». Особенно ярко представление обо всем мире как совокупности всех «малых миров» отражается в поэзии В. Нарбута. Он, если воспользоваться его же метафорой, строит свою поэтику, «весь мир, как торт, на секторы кроя». У Н. Гумилева, например, можно найти мир бегущих линий, мир снов, мир самых белых облаков, мир горестей и обид, мир горя и тревог, мир роскошных и ярких событий и т.д. У О. Мандельштама встречаются мир шоколада, старинной песни мир, мир пустоты, ресничный мир и прочие миры. Выделение в мироздании какой-то области, а в ней - конкретного объекта осуществляется акмеистами с помощью миропорождающего оператора в мире есть, ср. у О. Мандельштама: «в мире старость есть» («На влажный камень возведенный»). Таким образом, со значением Мир 7.7 в поэтике акмеизма оказывается теснейшим образом связано и производное от него Мир 1.5 ‘отдельная однородная область бытия, которая образует замкнутое и упорядоченное целое’.
Значения лексемы мир, соответствующие общим значениям Мир 1.2 ‘люди, населяющие мир’ и Мир 1.4 ‘общество людей со своим порядком, укладом, традициями, которое образует замкнутое целое и выделяется по какому-либо отличительному признаку’, а также Мир 1.3. ‘звезда, планета, галактика, образующая замкнутое целое и устроенная на подобие мира 1.Г, формируют в поэтике О. Мандельштама и акмеистов особую систему.
Прежде всего, «в чистом виде» мир людей, с точки зрения акмеистов, не существует: практически все соответствующие этому значению употребления лексемы мир синкретичны - трудно сказать, о данном ли человеку в ощущениях мире или о мире-общине идет речь, с лексемой мир в одном контексте могут быть соотнесены и Свет, и Земля, и Вселенная, ориентированная на человека, и Люди. Синкретизм может даже эксплицироваться, если мирам приписывается одно и то же «положение дел», как, например, у М. Зенкевича: «Торопясь на работу вместе с людьми, Рокотом этим разбужен рано, Утренеет, молодеет мир, Моясь студеной водой из-под крана» («Первый трамвай»). Но чаще о нем можно только догадываться: «Разве в мире сильных не стало <...>?» (Н. Гумилев, «Поэма начала»); «Золотой ракеты струны Укрепил и бросил в мир Англичанин вечно юный!» (О. Мандельштам, «Теннис»),
Особую подсистему образует в акмеистической поэтике христианский мир как часть человеческого общества с особым укладом, чаще других о нем упоминает О. Мандельштам, указывая на него как прямо: «Там двор образовался на весь христианский мир» («Коронование Людовика»), так и косвенно: «Прекрасен храм, купающийся в мире» («Айя-София»);
«Достроил башню мир, упрямый Вавилон» («Кулак»), Божий мир предстает у акмеистов как «мир - господь миров, <...> всего первоначало (С. Городецкий, «Пытая жизнь, я лют и светел...»), те. мир ‘то, что до всего’, ‘то, что все в себя включает’, который с миром людей связан отношениями преемственности, ср. у Н. Гумилева: «Есть Бог, есть мир, они живут вовек, А жизнь людей мгновенна и убога, Но все в себе вмещает человек, Который любит мир и верит в Бога» («Фра Беата Анджелико»), Миру, созданному Творцом, сопоставляется мир творцов, который в акмеистической модели сопряжен с планетарным миром; «Я захотел - и мир сияет: Планеты, солнце и земля» (С. Городецкий, «Я захотел - и мир сияет...»), «По нашей солнечной системе Не меряй жизни - будь готов Перевести земное время На время множества миров» (М. Зенкевич, «Ну что ж! С Землей простясь...»). Предстающие в образе «шевелящихся виноградин» миры О. Мандельштама также относятся к этой референтной области, ср. также: «Забыть, забыть - уйти далеко К шарообразным легким мирам, По новым звездам взвиться легко» («Пляска на горах»), К теме «сотворения мира» он, пожалуй, обращается чаще других: «И, несоз-данный мир лелея, Я забыл ненужное “я”» («Отчего душа так певуча...»); «Право Сильнейшего... работою он создал мир.. . Мне - плод моих трудов'. <...> Настройщик мира любит улыбаться, - Это знает каждый, Кто раз думал о своей работе» («Три тысячи людей...»), и, как можно было заметить, считает творчество работой «планетарного масштаба».
Представление о множественности образов мира отражается у акмеистов в достаточно частом выборе формы множественного числа соответствующего существительного: миры наряду с миром встречаются практически у всех. Например, у Н. Гумилева миры рушатся в бездонность, открываются во сне Вселенной, можно наблюдать и зарожденье, преображенье и ужасный конец миров, синих миров сверканье, то, как за клокочущими мирами проносились с гулом миры, наконец, Гумилев создает «прекрасное убежище»: «Мир звуков, линий и цветов, Куда не входит ветер режущий Из недостроенных миров» («Мое прекрасное убежище...»). О. Мандельштам признается: «Я создатель миров моих» и призывает: «Несозданных миров отмститель будь, художник, - Несуществующим существованье дай; Туманным облаком окутай свой треножник И падающих звезд пойми летучий рай!» («Я знаю, что обман в видении немыслим...»); у него можно найти и ученичество миров, и перепутье миров, есть и такое утверждение: «И нету никакой отрады, И нету горечи в мирах» («В смиренномудрых высотах...»). Интересно, что почти все представители школы упоминают иные миры (миры иные)8. Нельзя сказать, что связь с фраземой мир иной ‘тот свет, загробный мир’ полностью отсутствует; однако когда, например, С. Городецкий обещает читателю: «И заменю миры иными» («Я захотел - и мир сияет...»), можно предположить, что речь в этом случае все же не о противопоставлении сего мира - тому, а о качественно других мирах, о некоем «преодолении символизма», о чем стоит поговорить подробнее.
Прежде всего, акмеисты «преодолевают» доставшееся в наследство от символизма представление о мире-тюрьме. Рефлексов этой метафоры у акмеистов довольно много, больше всего, пожалуй, у О. Мандельштама: «В темнице мира я не одинок» («Дано мне тело...»); «Страна зарешет- кой - мир бедняка» («Птицы»); «Люди, ужели мир тесен вам?» («Кто я? Вольный бродяга я...»); «И задыхаешься, почуяв мира близость» («Ода»), «Страшно в мире душном...» («Клейкой клятвой лопнут почки»). Однако и у других поэтов-акмеистов на мир-тюрьму указывают такие атрибутируемые миру состояния, как темно, душно, страшно, а также связываемые с миром представления об опутанности, оплетенности, скованности, замурованности и образ мира-плена.
Одним из способов преобразования мира-тюрьмы (мира-плена) служит придание ему динамики, что связано с переосмыслением пространственно-временных координат мира. Как замечает Л.Г. Панова, как стабильный, тяготеющий к статике мыслится «мир в пространстве», «мир во времени» предполагает динамику, изменение9. Это существенно для передачи того «ощущения мира как живого равновесия», о котором О. Мандельштам писал в «Утре акмеизма»10. Сам он, не говоря об изменчивости мира прямо, тем не менее широко использует динамические метафоры для статических пространственных объектов, метафоры перемещения и лексические репрезентации представления о скорости, связанные с контекстуальными синонимами лексемы мир11. У Н. Гумилева же, например, мир меняется не только под воздействием времени, без него оставаясь легким, пресным, бездыханным и недвижимым, но и тогда, когда им управляет «та, чей мир в святом непостоянстве, чье названье - Муза Дальних странствий» («Открытие Америки»), У А. Ахматовой дискретное время открывает в мире - миры, мир как целое распадается на небесный и земной, дневной и ночной, внешний и внутренний. У М. Зенкевича найдем вихревые сдвиги кочующих миров, а также рассуждения о динамике мира во времени, которое может менять пространственные границы мира, простирая их в бесконечность: «Мир рос... Мир рос.. . Сто лет... Сто лет...», или же структуру мира: «день <.. > двадцать четыре коротких часа <...> в мире открыл чудеса» («Один день»),
«Преодоление символизма», а заодно и границ мира-тюрьмы идет и за счет рассеивания тьмы - светом; у О. Мандельштама «светлый мир широк» («Прогулка»), на «баррикадах» у него сражается «блестящего мира орда» («Баррикада»), Заметим, что свет в различных своих проявлениях - мерцании, ряби, блеске, лучезарном сиянии, ассоциирующемся с радостью и счастьем (что полностью согласуется со словарным значением сочетающегося с лексемой мир прилагательного лучезарный ‘озаряющий своим светом/преисполненный радости, счастья и т.п.’) является у акмеистов атрибутом истинного мира, отчетливо различимого в лучах света, в отличие от условного, туманного - символистского «мира-фантома», по С. Городецкому, интересного «лишь постольку, поскольку он сквозит и просвечивает иными мирами».
Однако, борясь с символистами, как это формулирует С. Городецкий, «за этот мир, звучащий, красочный, имеющий формы, вес и время»12, акмеисты не во всем следуют собственной программе. Так, цветовая палитра мира не вполне отвечает поэтическим декларациям, преобладают в ней традиционно связываемые с истинным (горним) миром все оттенки золотого (солнечного, сверкающего) и красного - от огневого, пламенного, пурпурного, алого, в лучах зари до красно-бурого, розового (новаторское осмысление этих цветов можно найти только у О. Мандельштама в «Канцоне»: «Две лишь краски в мире не поблекли: В желтой - зависть, в красной - нетерпенье»); встречаются и лазурный, голубой и синий - цвета небес и эфира. В сущности, акмеисты привносят лишь две новые краски: коричневую (краску вечности) и зеленую (краску нового мира). У О. Мандельштама мир коричневый, зеленый - вечно молодой, а у Н. Гумилева, даже будучи старым, мир - зелен. Общие впечатления акмеистов от мира13 также не выходят за рамки традиционно-поэтических. Даже железный мир О. Мандельштама («Концерт на вокзале») имеет аналоги как в символизме: «А мы рукою окровавленной Земле куем железный мир» (В. Иванов, «И снова ты пред взором видящим...»), так и в истории русской поэзии, ср.: «Он зрел в уме <...> Железный мир и дышащий Велением одним!» (Ф. Тютчев, «Высокого предчувствия...»); «Есть мир иной, железной прозы мир» (Е. Растопчина, «Судьба современных художников»); «Все равно Завтра будет за нами, <.. .> Мы железная мира орда» (И. Филипченко, «Лично я голодаю...»).
Что касается источника света, а также первопричины всех происходящих с миром изменений, то здесь обнаруживается парадокс: несмотря на декларативное признание О. Мандельштамом в манифесте акмеизма слова единственной поэтической реальностью14, мир как слово в акмеистической поэтике упоминается крайне редко. «Отверженное слово “мир”» -«светильник в глубине пещеры и воздух горных стран» встречается у О. Мандельштама («Зверинец»), у него же: «Буквы надписи червленой “Завоюем мир" струятся, Рвутся к цели отдаленной» («Завоюем мир!»), «По хлябям хаоса плавает духа глагол; Мир переделать <...> пришел» («Перебросилось в сердце...»). У А. Ахматовой «миропорождающим оператором» становится слово поэтическое: «Наше священное ремесло <...> С ним и без света миру светло» («Наше священное ремесло...»). У нее «стихами весь мир озарен» («И теми стихами...»), при этом в буквальных смыслах просвечивают переносные - озарить ‘осветить, залить светом/ оживить’, озарение ‘яркое освещение/внезапное открытие, наитие, вдохновение, ниспосланное свыше’. А сам мир К. Ахматова определяет как «мудрое слово, лучезарное слово» («Так в великой нашей Отчизне...»). Но это, пожалуй, единственные примеры.
Тем не менее, «изменения миропорядка» у акмеистов затрагивают и словесную материю, в частности, тогда, когда в поле их зрения оказываются содержащие лексему мир устойчивые выражения - фраземы.
Например, устойчивое сочетание пойти по миру ‘обеднев, начать нищенствовать, побираться’ употребляется акмеистами и в «прямом» смысле: «А я бросал земли взрыхленной комья, Бесстрашный и немой, Как истый вскормленник бездомья, Пошедший по миру с сумой» (С. Городецкий, «Отдание молодости»), и в своих вариациях, допускающих как переосмысление значения слова мир ‘сельская община —> мир людей —> свет ’, так и конкретно-референтное его употребление: «Ох, гуляем по миру, Распьянилися в пиру» (С. Городецкий, «Частушка»); «Уже не одно столетье Вот так мы бродим по миру...» (Н. Гумилев, «На северном море»), У О. Мандельштама также есть примеры преобразования этой фраземы: «Брат, зачем тебе мой черный стыд, Сбить папаху, пустить по миру И позор скормить молве людской?» («Гоготур и Аишина») - здесь значение фразеологизма сохраняется (пустить по миру ‘разорить’); «Позабыть бы удары и смертный стон, Катафалков пух и умерший лик, Пустить по миру тяжелый дым, Развеять горечь дымных туч...» («Пляска на горах») - фра-зеологизированность присутствует, но мир воспринимается и пространственно.
Особенностью поэтики О. Мандельштама следует признать последовательную проработку едва ли не всех существующих в русском языке фразеологизмов, включающих лексему мир. Так, фразема придти в мир ‘родиться’ обыгрывается в цитате из «Стансов»: «Я в мир вхожу - и люди хороши», а фразема идти с миром - в цитате из «Гоготура»: «Иди с миром, по-хорошему»; в обоих случаях и сохраняется фразеологизированное значение (в первом примере оно ощущается интуитивно, во втором подчеркивается смысловым противопоставлением вражды, войны имира в соответствующем значении), и объективируется представление о мире, превращающемся то в обживаемое пространство, то в спутника. Когда поэт пишет: «Все чуждо нам в столице непотребной: <.. .> Она, дремучая, всем миром правит...» («Все чуждо нам...»), править всем миром имеет сразу два значения: ‘управлять сообща’ и ‘управлять всем обществом/миром, в котором оно живет’, мир также превращается в объект. В «Песне о Роланде» у него грех «на весь мир кричит <.. >, чтоб услышал Бог», кроме усилительного значения фразема привносит в высказывание представление о диалоге с миром. В некоторых случаях мир выводится О. Мандельштамом за скобки фразем (или их вариаций), обычно используемых, когда речь идет о живых существах, ср.: «Мир должно в черном теле брать, Ему жестокий нужен брат» («Мир должно в черном теле брать...»); «Не своей чешуей шуршим, Против шерсти мира поем» («Я по лесенке приставной...»). Оживление внутренней формы фразем, таким образом, позволяет сформировать глубинный образ мира как пространственно-временной сущности, которая может быть как субъективирована, так и объективирована в поэтическом творчестве.
В статье «Наследие символизма и акмеизм» Н. Гумилев писал, что акмеизм требует «большего равновесия сил и более точного знания отношений между субъектом и объектом, чем это было в символизме»15. Покажем, как структурируются эти отношения в поле, соотносимом с лексемой мир, которая играет роль прагматической, те. определяющей параметры высказывания, переменной, наряду с лексемами я, ты, здесь и сейчас.
Начнем с того, что я-субъект, как правило, занимает по отношению к миру активную позицию, воспринимая его как объект наблюдения, восприятия или приложения усилий - я-субъект либо переделывает мир, изменяя его состояние или чувствуя себя, как О. Мандельштам, его «настройщиком», либо создает его, ощущая мир не только «продуктом», «плодом трудов», но и предметом своей заботы и своей собственной объективацией - мир одухотворяя и одушевляя.
Мир является объектом, отграниченным от других, при этом его внутреннее пространство может как быть в согласии, так и диссонировать с внешним; точно так же могут либо совпадать, либо быть диаметрально противоположными мир и внутренний мир человека. Человек при этом способен находиться как внутри мирового пространства, так и перемещаться по отношению к миру по вертикали и по горизонтали, проникая внутрь или пересекая его границы. Вместе с тем мир в поэзии акмеистов антропоморфен, по словам С. Городецкого, «мир - живое существо, двояко целое», «в<„.> двоих единый».
Это с необходимостью предполагает включение в двуединство шы-субъекта, что и подтверждают своим творчеством акмеисты. О. Мандельштам, например, прямо говорит: «Поглядим на мир вдвоем» («Мой щегол, я голову закину...»), а ты оказывается у него «на окраине мира» («Закутав рот, как влажную розу...»), в поле зрения я-субъекта. С. Городецкий же заявляет: «миру ты нужней чем я», «ты объемлешь мир» («Воля»), Можно предположить, что такое распределение коммуникативных ролей объясняется простым фактом: чтобы мир «заговорил», необходимо наличие говорящего и слушающего, обладающих одинаковым знанием о мире или способным к овладению таковым.
Обращает на себя внимание обилие у акмеистов примеров с конструкцией этот мир. Местоимение этот, которое в норме указывает на что-либо близкое в пространстве и времени по сравнению с другим, более отдаленным, или выделяет какой-либо объект из ряда других, относится к «указательным жестам» говорящего16. Выражение этот мир, таким образом, указывает не столько на «мир сей» в традиционном его понимании, сколько на мир, соотносящийся с координатами здесь и сейчас, что полностью согласуется с акмеистической установкой изображать мир в его конкретности. В некоторых случаях, впрочем, в этом мире у акмеистов оказывается и то, что обычно соответствует координате там, в результате чего два референциальных плана совмещаются.
Что касается того, что происходит с миром и в мире здесь и сейчас, то первая координата используется акмеистами намного чаще второй (в Национальном корпусе русского языка зафиксировано, соответственно, 61 и 305 употреблений)17. Это объясняется и тем, что здесь, являясь указанием на конкретную точку референтного пространства или на определенную область душевного бытия, а также «это место» и «этот мир», которые могут быть местом нахождения и миром говорящего, у акмеистов приобретает и темпоральное значение. Здесь может означать и ‘в этом месте’, и ‘в этот момент времени’, и ‘в этих обстоятельствах’, что передает синкретичное значение ‘в этой ситуации’, как, например, у О. Мандельштама: «Здесь должен прозвучать лишь греческий язык» («Вот дароносица...»). Чаще всего локус говорения указывают Н. Гумилев и А. Ахматова. О. Мандельштам в этом отношении занимает среди акмеистов третье место, отдавая предпочтение конкретно-референтным употреблениям лексемы здесь; «Здесь, на твердой площадке яхт-клуба, Где высокая мачта и спасательный круг, У южного моря, под сенью юга...» («Актер и рабочий»); указаниям с ее помощью на «этот мир», противопоставленный «тому»: «Только здесь, на земле, а не на небе...» («Может быть, это точка безумия...»), который, впрочем, тоже может оказаться здесь; «И здесь остается владычное небо» («Ода нескольким людям»); а также уже упомянутым синкретичным указаниям на «эту ситуацию». Координата сейчас у него, как и у акмеистов в целом, отнюдь не всегда отсылает к моменту говорения: «То, что я сейчас говорю, говорю не я, А вырыто из земли, подобно зернам окаменелой пшеницы» («Нашедший подкову»); реже всего она связывается с настоящим, чаще - с прошедшим и, в основном, с будущим (ближайшим) временами. Иными словами, предпочтение отдается временам, связанным с семанти- кой изменения, которые превалируют над статическими, фиксирующими положение дел в мире текста. Это полностью соответствует акмеистической концепции мира-покоя, готового прийти в движение.
Местоименное наречие здесь необходимо акмеистам как точка опоры - для обозначения того фрагмента действительности, в котором земной мир предстает в своем многообразии, в зримой конкретности, звучности, красочности, фрагмента, «узнаваемого» для читателя, сейчас играет роль вспомогательную, роль «фиксатора» и «динамизатора», активирующего внутренние возможности развития соответствующего этому фрагменту «положения дел». Лексема же мир превращается в прагматическую переменную с контекстно-обусловленным значением, точку преломления актуализируемых референтных областей и взаимообратимых структур предикации. Как и здесь и сейчас, мир не соотносится с точкой зрения только говорящего или только слушающего, представленных местоимениями я и ты; субъекты коммуникации могут находиться как в одном и том же локусе, соответствующем двум «возможным мирам», так и в двух разных локусах одновременно. Вместе с тем именно такая конфигурация индексов референции соответствует декларируемой акмеистами задаче говорить не просто о мире, а об этом мире, дать проявиться и зазвучать ему самому.
-
1 Мандельштам О.Э. Слово и культура. М., 1987. С. 168.
-
2 Северская О.И. Прагматическая переменная МИР в поэтике акмеизма // Корпусный анализ русского стиха: сборник научных статей. М., 2013. С. 185-215.
-
3 Панова Л.Г. «Мир», «пространство», «время» в поэзии Осипа Мандельштама. М.,2003.С. ПО.
-
4 Панова Л.Г. «Мир», «пространство», «время» в поэзии Осипа Мандельштама. М., 2003. С. 86-97.
-
5 Панова Л.Г. «Мир», «пространство», «время» в поэзии Осипа Мандельштама. М., 2003. С. 106-107.
-
6 Северская О.И. Прагматическая переменная МИР в поэтике акмеизма // Корпусный анализ русского стиха: сборник научных статей. М., 2013. С. 188-191.
-
7 Панова Л.Г. «Мир», «пространство», «время» в поэзии Осипа Мандельштама. М., 2003. С. 27.
-
8 Северская О.И. Прагматическая переменная МИР в поэтике акмеизма // Корпусный анализ русского стиха: сборник научных статей. М., 2013. С. 196-197.
-
9 Северская О.И. Прагматическая переменная МИР в поэтике акмеизма // Корпусный анализ русского стиха: сборник научных статей. М., 2013. С. 28.
-
10 Мандельштам О.Э. Слово и культура. М., 1987. С. 171.
-
" Панова Л.Г. «Мир», «пространство», «время» в поэзии Осипа Мандельштама. М., 2003. С. 257-267, 249-250 и др.
-
12 Городецкий С. Некоторые течения в современной русской поэзии // Аполлон. 1913. № 1. URL: http://new.gumilev.ni/acmeism/5/ (дата обращения 11.02.2015).
-
13 Северская О.И. Прагматическая переменная МИР в поэтике акмеизма // Корпусный анализ русского стиха: сборник научных статей. М., 2013. С. 205.
-
14 Мандельштам О.Э. Слово и культура. М., 1987. С. 168.
-
15 Гумилев И. Наследие символизма и акмеизм // Аполлон. 1913. № 1 URL: http://new.gumilev.ni/clauses/2/ (дата обращения 11.02.2015).
-
16 Падучева Е.В. Семантические исследования (семантика времени и вида в русском языке; семантика нарратива). М., 1996. С. 258-260.

-
17 Северская О.И. Прагматические переменные в сводном авторском словаре (на примере лексем здесь и сейчас в акмеистическом корпусе) // Авторская лексикография и история слов: к 50-летию выхода в свет «Словаря языка Пушкина». М., 2013. С. 181-189.
Список литературы Присутствие мира в поэтике О. Мандельштама и акмеистов
- Мандельштам О.Э. Слово и культура. М., 1987. С. 168
- Северская О.И. Прагматическая переменная МИРвпоэтике акмеизма//Корпусный анализ русского стиха: сборник научных статей. М., 2013. С. 185-215
- Панова Л.Г. «Мир», «пространство», «время» в поэзии Осипа Мандельштама. М., 2003. С. 110
- Панова Л.Г. «Мир», «пространство», «время» в поэзии Осипа Мандельштама. М., 2003. С. 86-97
- Панова Л.Г. «Мир», «пространство», «время» в поэзии Осипа Мандельштама. М., 2003. С. 106-107
- Северская О.И. Прагматическая переменная МИРвпоэтике акмеизма//Корпусный анализ русского стиха: сборник научных статей. М., 2013. С. 188-191
- Панова Л.Г. «Мир», «пространство», «время» в поэзии Осипа Мандельштама. М., 2003. С. 27
- Северская О.И. Прагматическая переменная МИРвпоэтике акмеизма//Корпусный анализ русского стиха: сборник научных статей. М., 2013. С. 196-197
- Северская О.И. Прагматическая переменная МИРвпоэтике акмеизма//Корпусный анализ русского стиха: сборник научных статей. М., 2013. С. 28
- Мандельштам О.Э. Слово и культура. М., 1987. С. 171
- Панова Л.Г. «Мир», «пространство», «время» в поэзии Осипа Мандельштама. М., 2003. С. 257-267, 249-250 и др
- Городецкий С. Некоторые течения в современной русской поэзии//Аполлон. 1913. № 1. URL: http://new.gumilev.ru/acmeism/5/(дата обращения 11.02.2015)
- Северская О.И. Прагматическая переменная МИРвпоэтике акмеизма//Корпусный анализ русского стиха: сборник научных статей. М., 2013. С. 205
- Мандельштам О.Э. Слово и культура. М., 1987. С. 168
- Гумилев Н. Наследие символизма и акмеизм//Аполлон. 1913. № 1 URL: http://new.gumilev.ru/clauses/2/(дата обращения 11.02.2015)
- Падучева Е.В. Семантические исследования (семантика времени и вида в русском языке; семантика нарратива). М., 1996. С. 258-260
- Северская О.И. Прагматические переменные в сводном авторском словаре (на примере лексем здесь и сейчас в акмеистическом корпусе)//Авторская лексикография и история слов: к 50-летию выхода в свет «Словаря языка Пушкина». М., 2013. С. 181-189