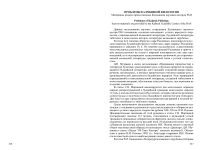Притча о царе Ралпачане
Автор: Бичеев Баазр Александрович
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Проблемы калмыцкой филологии
Статья в выпуске: 4 (55), 2020 года.
Бесплатный доступ
В статье анализируются русские переводы буддийской притчи о тибетском «царе дхармы» Ралпачане, правившем в середине IX в. Первый по времени публикации (1810 г.) перевод принадлежит русскому литератору Н.Н. Страхову. Второй перевод, выполненный известным калмыцким просветителем и педагогом Н. Бадмаевым, был опубликован в 1898 г. в «Астраханских епархиальных ведомостях», а еще через год включен в содержание подготовленного им первого русскоязычного «Сборника калмыцких сказок». При этом ни один из авторов не приводит сведений относительно исходного текста, с которого осуществлялся перевод. Поэтому проблематичный момент связан с необходимостью установления источника, с которого был сделан перевод: был ли это письменный источник или его устный вариант. Одной из отличительных особенностей литератур монгольских народов является их устойчивая взаимосвязь с устной художественной системой. Наиболее популярные литературные произведения обретали свои устные варианты, сохраняя при этом некоторые элементы письменной формы. Наиболее часто такой трансформации подвергались произведения дидактического содержания, прозопоэтическое содержание которых уже содержало в себе элементы устной художественной системы. В средневековой литературе монгольских народов такие произведения представлены многочисленными текстами наставлений и поучений. Одним из известных произведений этого вида литературы является «История Усун Дебескерту-хана», которая представляет собой сборник наставлений, приписываемых все тому же царю Ралпачану. Однако исходя из исторических данных, можно предположить, что этот сборник был составлен гораздо позже, во всяком случае, не ранее завершения реформ буддизма, начатых Цонкапой (13571419). В середине XVII в. текст наставлений был переведен на ойратский язык известным в истории Тибета джунгарским Гуши-ханом. Его перевод получил широкое распространение в рукописном виде не только на ойратском «ясном письме», но и в старописьменной монгольской графике. Таким образом, существовастихотворений Гари Мушаева “Степной ветер”)» представлена поэзия калмыцкого зарубежья второй волны на материале лирики поэта-эмигранта, впервые изданной на родине в конце прошлого столетия. Эта своего рода книга-завещание вводится в историю калмыцкой литературы ХХ века в аспекте литературы калмыцкого зарубежья.
Буддийская притча, русский перевод, царь ралпачан, сборник наставлений, устный вариант, н.и. страхов, н. бадмаев
Короткий адрес: https://sciup.org/149127481
IDR: 149127481 | DOI: 10.24411/2072-9316-2020-00115
Текст научной статьи Притча о царе Ралпачане
В устной традиции калмыков иногда встречается такое явление, как ремарка сказителя, т.е. пояснение определенного момента рассказываемого сказочного сюжета. Подобная манера характерна не для всех сказителей. Но если ремарка присутствует, то она обоснована необходимостью комментирования рассказчиком того или иного места повествования. Например, такие ремарки встречаются в некоторых сказках, записанных у известного калмыцкого сказителя Санджи Манжикова (1891 г.р.), уроженца Мечетинского уезда Донской области [Хальмг туульс 1968]. В одном из его текстов есть ремарка, поясняющая народное представление о том, что человек, вышедший за порог дома в темное время суток без головного убора и с расстегнутым воротом, может подвергнуться воздействию нечистой силы.
«Улгурнь келхлз, кун гиен юмн ceehm кевтрзс цаг биш цагт толка нуцкн, за-хин товч кевтзн тззлзтз hapx йоснуга» [Хальмг туульс 1968, 240].
«Например, человек не должен выходить за порог дома в неурочное время с непокрытой головой и не застегнутым воротом» (Перевод наш - Б.Б.).
Это не единственная ремарка сказителя в этой сказке. Есть еще одно пояснение, которое не имеет непосредственного отношения к сказочному сюжету, но связано с традицией слушания / чтения некоторых текстов. Известно, что в письменной культуре калмыков книжные произведения не читались, а в большинстве своем слушались в исполнении знатоков и любителей книжной старины. Сказка С. Манжикова заключается нравоучительной сентенцией о том, что человеку, желающему набраться ума, необходимо услышать «Историю Унекер Торликту-хана», а желающему прослезиться - услышать «Историю Усуи Дебескерту-хана».
Эн туужин тускар иим улгур бээдм: «Уха сурх кун “Умкэ Терлт хаана тууж ” соцсхмн,уулъханхззен кун “УснДевскртин тууж” сонсхлш» [Хальмгтуульс 1968, 247].
Об этой истории существует такая поговорка: «Человек, который хочет набраться ума, должен услышать “Историю Унекер Торликту-хана”, а человек, который хочет прослезиться, должен услышать “Историю Усуи Дебескерту-хана”» (Здесь и далее перевод наш - Б.Б.).
Подобного рода сентенции, как в содержании этой сказки, традиционны для письменных произведений народной литературы, которые рекомендуется слушать / читать, заказывать переписку того или иного текста. Появление их в книжных текстах связано со стремлением закрепить в сознании верующих основы буддийского учения. Поэтому, по словам сказителя, чтобы «набраться ума», необходимо прослушать «Историю Унекер Торилту-хана», а чтобы «прослезиться» от благоговения перед ценностью учения и собственного несовершенства, необходимо прослушать «Историю Усуи Дебескерту-хана».
Одновременно авторская ремарка указывает на некоторые особенно- сти сказочных сюжетов, которые были заимствованы из литературных текстов и обрели устную форму своего существования. Упоминаемая в ремарке «История Унекер Торликту-хана» - это известное произведение старописьменной калмыцкой литературы, повествующее об одном из прошлых рождений Бодхисаттвы Авалокитешвары в форме увлекательного сказочного сюжета [Бичеев 2018]. Устный вариант этого произведения получил широкое распространение среди ойратов России, Монголии и Китая [Беннигсен 1912; Потанин 1883, Бичеев, Дамринджав 2017].
«История Усуи Дебескерту-хана» - это также известное и широко распространенное в рукописном виде произведение старописьменной калмыцкой литературы, представляющее собой сборник нравоучительных наставлений, авторство которого приписывается тибетскому царю древней династии Ралпачану (815-841). В разных источниках имя этого правителя написано по-разному - Ралбачжан [Востриков 2007], Ралпачан [Пагсам-Джонсан 1991], Рэлпачан [Шакапба 2003].
Тицуг Децэн (Khri-gtsug Ide-bstan) или Три Ралпачан (Ral-pa-can, калм. Усун Дебескерту-хан) известен как третий «царь дхармы», при котором произошло укрепление государственности Тибета, избавление страны от протектората Китая и утверждение буддизма в качестве государственной религии, те. концентрация в руках правителя «двуединой» (религиозной и светской) власти [Востриков 2007, 101; Пагсан-Джонсам 1991, 25-26; Попов 1898, 56-57].
Однако эти наставления вряд ли могли быть составлены при жизни Ралпачана и даже не сразу после его смерти, поскольку вслед за его кончиной последовали гонения на буддизм. Затем произошел распад страны на мелкие княжества, завершивший эпоху «религиозных царей», последним из которых и был Ралпачан. Возрождение религиозной традиции начнется лишь в XV столетии с деятельностью великого реформатора буддизма Цонкапы (1357-1419) и появлением института Далай-лам. Известно, что в этот период появляется памятник тибетской апокрифической литературы «Мани-гамбум», представляющий собрание произведений, приписываемых первому «царю дхармы» Сронцзан-гампо (617-698) [Востриков 2007: 44]. Подобно этому, наставления и различные притчи о «царе дхармы» Ралпачане, по всей видимости, были составлены в это же время.
Впоследствии этот сборник наставлений был переведен с тибетского языка на ойратский джунгарским Буши Номин-ханом. Известно, что в середине XVII в. Гуши-хан вторгся в Тибет, где, усмирив представителей красношапочного буддизма, закрепил первенство махаянского буддизма и передал светскую и религиозную власть в руки Далай-ламы V (Пагсам-Джонсан 1991: 47-48; Попов 1898). Его перевод получил широкое распространение в рукописном виде не только на ойратском «ясном письме», но и в старописьменной монгольской графике. Известно о тринадцати списках этого текста на «ясном письме», хранящихся в частных коллекциях и научных архивах России, Монголии и Китая [Сазыкин 1988, № 302 (1), №
425(5), № 427 (7); Gerelma 2005, №№ 1016-1018; Бичеев 2019]. О популярности этого произведения свидетельствует и вышеприведенная ремарка сказителя С. Манжикова.
Согласно сохранившимся преданиям, Гуши-хану также принадлежит ойратский перевод «Сутры Золотого света» [Калмыцкая хрестоматия 1927, 84]. Однако текст этого перевода, видимо, не сохранился. Во всяком случае, обнаружить его пока не удалось.
«История Усуи Дебескерту-хана», как уже было отмечено, представляет собой собрание нравоучительных наставлений. В тексте памятника они даны в стихотворной форме в виде пословиц, поговорок, триад и катренов, многие из которых известны в устной афористической поэзии калмыков. Наряду с этим сборником наставлений калмыкам была известна и притча о Ралпачане, которая бытовала в письменной и устной версиях. Конечно, мало кто из простых людей, да и самих любителей книжной старины знал, что за именем Усун Дебескерту-хан скрывается царь древней тибетской династии Ралпачан.
К сожалению, эта буддийская притча философского содержания, облаченная в доступную для простых верующих художественную форму, известна нам только в русском переводе. Ни письменный, ни устный вариант этой притчи на калмыцком языке нам не известен. Впервые русский перевод притчи об Усун Дебескерту-хане под названием «Водопад и дикий камень» был опубликован главным приставом калмыцкого народа Н.И. Страховым в начале XIX в. [Страхов 1810, 69-73].
О жизни и творческой судьбе Н.И. Страхова известно мало. Исследователи, пытавшиеся описать его жизненный и творческий путь, вынуждены констатировать, что «происхождение, образование, дружеские связи, семейное положение, даты жизни и смерти доподлинно неизвестны» [За-йонц 2008, 1]. Известно, что в молодые годы он занимался литературной и журнальной деятельностью у В.В. Новикова. В короткий срок приобрел известность, а затем в связи с арестом В.В. Новикова оставил литературное поприще и определился на службу. Получив чин коллежского асессора в 1798 г, он стал директором Ахтубинского шелкового завода. В 1802 г. по просьбе калмыцкого наместника Чучей-тайши Тундутова был назначен на должность главного пристава калмыцкого народа, а уже в 1804 г. смещен с этой должности по обвинению во взятках.
После увольнения со службы в 1809 г. Н.И. Страхов возвращается в Петербург. Как отмечает Л.О. Зайонц, «Две маленькие книги очерков, выпущенные им уже в новом веке, трудно назвать попыткой вернуться в литературу - это скорее попытка вернуться к самому себе, собрать скромные остатки того капитала, который некогда составлял его литературный дар, и предложить его публике в качестве то ли исповеди, то ли завещания. Эти книги ничем не напоминали зоркого и остроумного хроникера модного века, каким знали Страхова читатели 1790-х гг, они выдавали в авторе человека рано состарившегося, несчастного и одинокого» [Зайонц 2008, 1].
Кроме двух вышеупомянутых книг, Н.И. Страхов в 1810 г. «иждивени- ем сочинителя» издает книгу «Нынешнее состояние калмыцкого народа, с присовокуплением калмыцких законов и судопроизводства, десяти правил их веры, молитв, нравоучительной повести, сказки, пословиц и песни Са-вардин». Под «нравоучительной повестью» имеется в виду притча о Рал-пачане под названием «Водопад и дикий камень».
Автор ничего не сообщает ни о том, был ли перевод осуществлен со старокалмыцкого текста или с устного предания, ни о том, кто помогал ему с переводом этой притчи. По всей видимости, Н.П. Страхову не удалось овладеть калмыцким языком, но такие попытки им предпринимались. По свидетельству Д.Б. Мертваго, побывавшего в Калмыцкой степи в августе 1802 г, главный пристав, коллежский советник Н.П. Страхов показался ему «человеком умным, с просвещением. Часа в четыре хлопотливого времени много насказал, какие полезные намерения имеет, что учится по калмыцки, желая сочинить историю о калмыках, что нашел уже он достоверные следы к показанию происхождения их от индийцев, причины, для коих и когда пришли они в сии степи, между Каспийского и Черного морей простирающаяся, вверх по рекам Волге и Дону, о законе их, о суевериях, о науках, художествах, об обычаях и прочем...» [Мертваго 1868, 128].
Правда, в конце своих записок Д.Б. Мертваго приходит к уничижительному выводу как о самих калмыках, так и об их главном приставе. «Калмыки дерзки своровать то, что могут съесть, трусливы, где хоть малое сопротивление встретить дают, раболепны и потому верны. Легко перенимают, но ничего выдумать не умеют. Слепо верят всем нелепостям их духовных, кои так же глупы, как и они, но думают о себе, будто много знают и сделать могут. Словом, если качество калмыка счислять весом, то три пуда скотства, тридцать фунтов зверства и десять человечества найдется. Г-н Страхов, надуваясь деньгами, от глупости их получаемыми, хочет распыжить достоинства их, но, кажется, лишь вздуется карман его, а они всегда останутся, так как есть доныне и как полезны они в общем составе общества» [Мертваго 1868, 132].
Остается только сожалеть, что столь просвещенный человек, как Н.П. Страхов, не смог полностью опубликовать те материалы, которые были собраны им в калмыцких кочевьях. Так, немецкий пастор Б. Бергманн за короткий срок своего пребывания в калмыцких степях при содействии все того же наместника Чуучей-тайши Тундутова собрал большое количество материала, позволившего ему издать четыре тома его сочинения «Кочевнические скитания среди калмыков в 1802-1803 гг.» [Bergmann 1804-1805].
По своему содержанию притча «Водопад и дикий камень» мало чем отличается от традиционных буддийских притч, образцы которых имели широкое распространение в рукописном виде. Так, в содержании «Калмыцкой хрестоматии», составленной в 1906 г. учителем народной школы Ш. Болдыревым, помещены тексты десяти наставлений и притч дидактического содержания [Калмыцкая хрестоматия 1927].
Традиционно буддийские притчи выстраиваются в форме диалога между основными персонажами. Не является исключением и наша притча, построенная на диалоге Усуи Дебескерту-хана с буддийским отшельником. В экспозиции сообщается, что хан впал в «унылую задумчивость» от того, что порок торжествует над добродетелью и «что зло есть первое начало и управление мира». Ни супруга хана Цоочи, ни вельможи не могли умерить его печали. В это время во дворце появляется монах-отшельник, который ведет хана к водопаду и, указав на огромный камень, разрушенный струями водопада, убеждает хана в том, что «этот водопад и дикий камень суть подобий зла и добра. Добродетель некогда измоет, сотрет и истребит порок. Каждой по силе свыше ему данной, должен быть в отношении к водопаду добродетели струей, каплей или брызгами. Но чем бы кто ни был во время своей жизни, чтобы кто ни сделал над камнем порока, но каждый в свою очередь поспешествует истреблению зла!» [Страхов 1810, 72]. Хан, поверив в «истину слов пустынника, исцелился от печали и приказал сие происшествие выбить на камне, с которого оное списано и здесь помещено в научение унывающих добродетельных людей» [Страхов 1810, 73].
В переводе этой небольшой по объему притчи Н.И. Страхову, как опытному литератору, удалось уловить специфическую форму произведения, передать художественную и философскую составляющую текста. Содержание притчи было привлекательным для него, поскольку было близко по духу его прежним литературным работам. Неслучайно он вставил указание к названию текста - «нравоучительная повесть». Можно с полной уверенностью сказать, что такого указания не было в калмыцком тексте.
Если в переводе Н.И. Страхова художественное и философское содержание притчи отражено в полной мере, то в другом русском переводе этой притчи несколько теряется даже сама специфическая форма диалога. Этот второй русский перевод под названием «Водопад и камень», появившийся через 88 лет после публикации Н.И. Страхова, принадлежит известному калмыцкому просветителю Н. Бадмаеву.
Н. Бадмаев (ум. в 1912 г.) - один из представителей первой волны калмыцкой интеллигенции XIX в., с русским образованием, переводчик Управления калмыцким народом в г. Астрахани, преподаватель Астраханского калмыцкого училища и Астраханской духовной семинарии, автор «Калмыцко-русского букваря», «Калмыцко-русского словаря», «Сборника калмыцких сказок» и многочисленных статей по этнографии, религии и культуре калмыцкого народа. В 1898 г. в «Астраханских епархиальных ведомостях» им был опубликован текст притчи «Водопад и камень» [Бадмаев 1898, 777-778]. Через год в 1899 г. этот же текст был помещен в русскоязычном «Сборнике калмыцких сказок», подготовленном по случаю 50-летия Астраханского калмыцкого училища [Бадмаев 1899, 5-6].
Как в первой, так и во второй публикации не указан источник, с которого был сделан перевод притчи. По всей видимости, текст перевода этой притчи был заимствован Н. Бадмаевым из книги Н.И. Страхова. Но те исправления, которые вносит в перевод Н. Бадмаев, позволяют предпо-354
дожить, что он был знаком либо с письменным текстом, либо с устным его вариантом.
При сравнительном анализе двух текстов перевода видно, что перевод Н. Бадмаева явно уступает переводу опытного литератора Н.И. Страхова в художественном плане, что вполне естественно. Более того, его перевод более «подстрочен», чем художественен. Это заметно уже во вступительной части притчи.
«Хан Усень Дебескерту впал некогда в унылую задумчивость произшедшую от видимаго торжества порочных над добродетельными. Ни что не могло отвратить его от горестной мысли, что зло есть первое начало и управление мира» [Страхов 1810, 69].
«Некогда хан Усень-Дебескертэ по той причине, что порок торжествует над добродетелью и что зло - первое начало и управляет миром, впал в безутешную задумчивость» [Бадмаев 1898, 777].
По всей видимости, тот (устный или письменный) вариант калмыцкого текста, которым пользовался Н. Бадмаев, несколько отличался от текста, которым пользовался Н.И. Страхов. Так, если супруга хана у Н.И. Страхова названа Цоочи, то у Н. Бадмаева - Джаджа.
«Прекрасная его супруга Цоочи и преданные ему вельможи не в силах были уничтожить жесточайшую сердечную его печаль» [Страхов 1810, 69].
«Прекрасная супруга его Джаджа была не в силах умерить его печаль» [Бадмаев 1898, 777].
В некоторых местах перевода Н. Бадмаева диалог передан в повествовательной форме.
«Наконец явился из дальней степи пришедший пустынник, который просил, чтобы допустили его к Хану.
-
- Поедем недалеко со мною, - сказал он, - я излечу тебя от уныния и докажу, что добро рано или поздно торжествует над злом. Он привез его к водопаду, который лился и сякнул на дикий камень огромной величины.
-
- Что ты об этом думаешь? - спросил пустынник Хана, указывая водопад и камень. Усень Дебескерту молчал и погружен был в задумчивость» [Страхов 1810, 70-71].
«Вот однажды, из дальней степи явился отшельник с целью выручить хана от мрачной грусти, снедающей его сердце.
-
- Хан, - сказал он, - поедем со мною в одно место, - я вылечу тебя от тоски твоей, и докажу, что добро рано или поздно восторжествует над злом'.
Хан согласился.
Отшельник привез его к одному водопаду, лившемуся на огромную дикую скалу, и спросил, что он думает об этом водопаде и камне.
Тот, по-прежнему погруженный в задумчивость, молчал» [Бадмаев 1898, 777].
В легендарном содержании притчи опосредованно отразился тот факт, что при «царе дхармы» Ралпачане буддизм обрел в Тибете статус государственной религии. Так в финале притчи по указанию царя устанавливается каменная стела с надписью о происшедшем событии. Эта финальная фраза в тексте Н.И. Страхова позволяет предположить, что перевод был выполнен с письменного текста. По своей форме и содержанию эта заключительная фраза вполне соответствует традиционному колофону письменных текстов.
«Усень Дебескерту почувствовал истину слов пустынника, исцелился от печали и приказал сие происшествие выбить на камне, с котораго оное списано и здесь помещено в научение унывающих добродетельных людей» [Страхов 1810, 73].
У Н. Бадмаева эта финальная фраза, указывающая на происхождение письменного текста, передана в ином виде.
«Хан, очнувшись, как бы со сна, вдруг воспрянул духом, убедившись в истинности слов отшельника, исцелился от грусти, и в ознаменовании чего приказал вырезать сие происшествие на гранитной скале» [Бадмаев 1898, 778].
Таким образом, благодаря переводу Н.И. Страхова мы имеем сегодня возможность ознакомиться с содержанием буддийской притчи о царе древней династии Ралпачане, которая бытовала в письменной и устной художественной системе калмыков, начиная с середины XVII в.
Для ознакомления исследователей с текстом двух переводов этой притчи, ставших библиографической редкостью, прилагаем их к данной статье в авторской пунктуации и орфографии.
Водопад и дикой камень
Нравоучительная повесть
Хан Усень Дебескерту впал некогда в унылую задумчивость произшедшую от видимаго торжества порочных над добродетельными. Ни что не могло отвратить его от горестной мысли, что зло есть первое начало и управление мира. Прекрасная его супруга Цоочи и преданныя ему вельможи не в силах были уничтожить жесточайшую сердечную его печаль. Наконец явился из дальней степи пришедший пустынник, которой просил, чтобы допустили его к Хану.
-
- Поедем недалеко со мною, - сказал он, - я излечу тебя от уныния и докажу, что добро рано или поздно торжествует над злом. Он привез его к водопаду, которой лился и сякнул на дикой камень огромной величины.
-
- Что ты об этом думаешь? - спросил пустынник Хана, указывая водопад и камень. Усень Дебескерту молчал и погружен был в задумчивость. Пустынник 356
подал ему руку, обвел круг камня, показал разные великия от него отломки, раз-щелины и посредине большую дыру пробивтую течением и сячущимися каплями водопада.
-
- Этому камню слишком тысячу лет, - сказал пустынник, - Он был вдвое длиннее и толще, но водопад медленным своим течением и сячущимися каплями раздробил его и пробил насквозь. Одни брызги до половины его сгладили. Знай Усень Дебескерту, - продолжал говорить пустынник, - что этот водопад и дикой камень суть подобий зла и добра. Добродетель некогда измоет, сотрет и истребит порок. Каждой по силе свыше ему данной, должен быть в отношении к водопаду добродетели струею, каплею или брызгами. Но чем бы кто ни был во время своей жизни, чтобы кто ни сделал над камнем порока, но каждой в свою очередь поспешествует истреблению зла'. Возвратись и будь спокоен! Знай и верь, что добродетели и пороки суть дни и ночи вечности. Некогда настанет беспрерывной и вечной день добродетели и тогда мрак позжётся лучами немеркающаго света.
Усень Дебескерту почувствовал истину слов пустынника, исцелился от печали и приказал сие произшествие выбить на камне, с которого оное списано и здесь помещено в научение унывающих добродетельных людей [Страхов 1810, 69-73].
Водопад и камень
Сообщил Н. Бадмаев
Некогда хан Усень-Дебескертэ по причине того, что порок торжествует над добродетелью и что зло - первое начало и управляет миром, впал в безутешную задумчивость. Прекрасная супруга его Джаджа была не в силах умерить его печаль. Вот однажды, из дальней степи явился отшельник с целью выручить хана от мрачной грусти, снедающей его сердце.
-
- Хан, - сказал он, - поедем со мною в одно место, - я вылечу тебя от тоски твоей, и докажу, что добро рано или поздно восторжествует над злом'.
Хан согласился.
Отшельник привез его к одному водопаду, лившемуся на огромную дикую скалу, и спросил, что он думает об этом водопаде и камне.
Тот, по-прежнему погруженный в задумчивость, молчал.
Тогда отшельник взял его за руку, обвел вокруг скалы, указывая на расщелины ея, на большие отломки от нея, а особенно на большую скважину, пробитую падающими каплями водопада, в середине камня.
-
- Граниту этому, - продолжал отшельник, - более тысячи лет. Он был вдвое огромнее, чем теперь, но вода слабыми и редкими каплями раздробила его до половины. Знай, хан, что этот водопад и дикая скала изображают добро и зло, т. е. добродетель измоет, сотрет и истребит как вода эту скалу, порок. Но только каждый, кто бы он ни был, сообразно с его силами, в отношении к водопаду, добродетели, должен быть, так сказать, струею, каплею или брызгом, и стараться споспешествовать к истреблению зла, как бы маловажны ни были его усилия над камнем порока. Возвратись, хан, будь спокоен и верь, что, хотя порок, благодаря слабости людей, продолжителен, но... некогда настанет безпрерывный и вечный день добродетели, и тогда мрак сожжется лучами непомеркаемого света истины!
Хан, очнувшись, как бы со сна, вдруг воспрянул духом, убедившись в истинности слов отшельника, исцелился от грусти, и в ознаменовании чего приказал вырезать сие происшествие на гранитной скале [Бадмаев 1898, 777-778].
Список литературы Притча о царе Ралпачане
- Бадмаев Н. Водопад и камень. Сообщил Н. Бадмаев // Астраханские епархиальные ведомости. 1898. № 7. С. 777-778.
- Бадмаев Н. Сборник калмыцких сказок (На русском языке). Составил Най-ман Бадмаев. Астрахань, 1899.
- Беннигсен А.П. Легенды и сказки Центральной Азии, собранные графом А.П. Беннигсен. СПб., 1912.
- Бичеев Б.А. Ойратская версия «Истории Унекер Торликту-хана». Факсимиле рукописей. Исследование, транслитерация, перевод с ойратского, комментарии Б.А. Бичеева. Элиста, 2018.
- Бичеев Б.А. Списки рукописей и история публикации «Истории Усун Дебескерту-хана» // Oriental Studies. 2019. № 3. С. 441-449.
- Бичеев Б.А., Дамринджав Б. Устная версия «Истории Унекер Торликту-хана». Исследование, пер. с монг., комментарии Б.А. Бичеева и Б. Дамринджава. Элиста; Пекин, 2017.
- Востриков А.И. Тибетская историческая литература. СПб., 2007.
- Зайонц Л.О. Две судьбы Николая Ивановича Страхова // Труды по русской и славянской филологии. Литературоведение. К 85-летию Павла Семеновича Рейф-мана. Тарту, 2008. С. 25-42.
- Калмыцкая хрестоматия для чтения в аймачных и в младших отделениях улусных школ. Составил Ш. Болдырев // Хонхо. Вып. III. Прага, 1927. С. 1-255.
- Мертваго Д.Б. Дополнения к запискам Д.Б. Мертваго. (Два рассказа и Завещание) // Русский архив. 1868. № 1-6. С. 124-134.
- Пагсам-Джонсан: История и хронология Тибета. Перевод с тиб. языка, предисловие, комментарий Р.Е. Пубаева. Новосибирск, 1991.
- Попов И. История Тибета // Все о Тибете. М., 2001. С. 31-98.
- Потанин Г.Н. Очерки Северо-Западной Монголии. Результаты путешествия, исполненного в 1879 году по поручению ИРГО Г.Н. Потаниным. Вып. IV. Материалы этнографические. СПб., 1883.
- Сазыкин А.Г. Каталог монгольских рукописей и ксилографов Института Востоковедения АН СССР. Т. I. М., 1988.
- Страхов Н.И. Нынешнее состояние калмыцкого народа, с присовокуплением калмыцких законов и судопроизводства, десяти правил их веры, молитв, нравоучительной повести, сказки, пословиц и песни Савардин. СПб., 1810.
- Хальмг туульс. II боть (Калмыцкие сказки. Т. II). Элиста, 1968.
- Шакабпа Цепон В.Д. Тибет: политическая история. СПБ., 2003.
- Bergmann B. Nomadische Streifereien unter den Kalmücken in den Jahren 1802 und 1803: in 4 Bänden. Riga, 1804-1805.
- Gerelmaa G. Brief Catalogy of Oirat Manuscripts Kept by Institute of Language and Literature bu Gerelmaa Guruuchin. Ulaanbaatar, 2005.