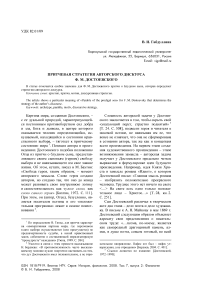Притчевая стратегия авторского дискурса Ф. М. Достоевского
Автор: Габдуллина В.И.
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Литературоведение
Статья в выпуске: 2 т.7, 2008 года.
Бесплатный доступ
В статье отмечается особое значение для Ф. М. Достоевского притчи о Блудном сыне, которая определяет стратегию авторского дискурса.
Архетип, притча, мотив, дискурсивная стратегия
Короткий адрес: https://sciup.org/14736976
IDR: 14736976 | УДК: 82.01/09
Текст научной статьи Притчевая стратегия авторского дискурса Ф. М. Достоевского
Картина мира, созданная Достоевским, – с ее дуальной природой, характеризующейся постоянным противоборством сил добра и зла, Бога и дьявола, в центре которого оказывается человек определяющийся, искушаемый, находящийся в состоянии нравственного выбора, – тяготеет к притчевому состоянию мира 1. Позиция автора в произведениях Достоевского подобна положению Отца из притчи о блудном сыне, предоставляющего своим сыновьям (героям) свободу выбора и не навязывающего им свое знание жизни. Об этом, кстати, писал и М. Бахтин: «Свобода героя, таким образом, – момент авторского замысла. Слово героя создано автором, но создано так, что оно до конца может развивать свою внутреннюю логику и самостоятельность как чужое слово, как слово самого героя» [Бахтин, 1972. С. 111]. При этом, он (автор, Отец), безусловно, является носителем истины и его «положительная программа» лежит в основе повествования 2.
Сложность авторской задачи у Достоевского заключается в том, чтобы скрыть свой 3 «указующий перст, страстно поднятый» [Т. 24. С. 308], подвести героя и читателя к искомой истине, не навязывая им ее, что вовсе не означает, что она не сформирована в сознании автора, так же как и концепция всего произведения. На первом этапе создания художественного произведения – этапе возникновения замысла – авторская задача получает у Достоевского предельно четкое выражение в формулировке идеи будущего произведения. Например, идея Князя Христа в замысле романа «Идиот», о котором Достоевский писал: «Главная мысль романа – изобразить положительно прекрасного человека. Труднее этого нет ничего на свете <…> На свете есть одно только положительное лицо – Христос…» [Т. 28, кн. 2. С. 251].
Сам Достоевский различал в творческом акте два этапа – дело поэта и дело художника. В письме к А. Н. Майкову в мае 1869 г. Достоевский следующим образом объясняет адресату свои представления о писательском труде: «…поэма, по-моему, является как самородный драгоценный камень, алмаз, в душе поэта, совсем готовый, во всей цательное направление. Пафос его был – пафос утверждения, а не отрицания» [Бердяев, 2004. С. 401].
ISSN 1818-7919. Вестник НГУ. Серия: История, филология. 2008. Том 7, выпуск 2: Филология © В. И. Габдуллина, 2008
своей сущности, и вот это первое дело поэта, как создателя и творца , первая часть его творения. <…> Затем уж следует второе дело поэта, уже не так глубокое и таинственное, а только как художника: это, получив алмаз, обделать и оправить его» [Т. 29, кн. 1. С. 39] (здесь и далее подчеркнуто Достоевским. – В. Г. ). Первый этап – это зарождение поэтической идеи, о котором Достоевский пишет Майкову как о совокуплении Бога живого и сущего с душой поэта. При этом поэт в концепции творчества, изложенной Достоевским, не просто восприемник нисходящих к нему свыше идей: «…если не сам он творец, то, по крайней мере, душа-то его есть тот самый рудник, который зарождает алмазы и без которого их нигде не найти»; более того, форма будущего воплощения идеи зарождается тоже в душе поэта: «…сущность и даже размер стихов зависят от души поэта…» [Там же]. В работе В. Я. Кирпотина наблюдения над мыслями Достоевского в письме к Майкову о таинственном зарождении будущего произведения в душе художника завершаются замечательной образной интерпретацией этого процесса: «…“поэзия” у него – это замысел не логический, конечно, а замысел-туманность, которая должна была сгуститься в звезду-роман» [Кирпотин, 1972. С. 148]. Как ни поэтично это сравнение, очевидно не претендующее на научность, оно все-таки не соответствует мысли Достоевского о роли поэтического замысла. «Поэма», которую писатель сравнивает с «самородным драгоценным камнем» и неограненным «алмазом» – это, скорее, сгусток мысли, ядро замысла, вокруг которого организуется вселенная романа (если рассматривать творческий процесс в категориях и образах космогонии).
В упомянутом письме к Майкову Достоевский делится с адресатом «пришедшей ему в голову новой идеей », выступая в роли своего рода «промежуточного звена» между высшей инстанцией творческого акта и художником. Нас, в данном случае, интересует форма изложения замысла «ряда былин в стихах » , в которых, как пишет Достоевский, поэт Майков должен «воспроизвести <…> с самого начала с русским взглядом, – всю русскую историю, отмечая в ней те точки и пункты, в которых она, временами и местами, как бы сосредоточивалась и выражалась вся, вдруг, во всем своем целом»
[Т. 29, кн. 1. С. 39]. Далее в изложении своего замысла Достоевский очерчивает круг эпизодов и четко манифестирует идею («о всеправославном значении России» [Там же. С. 40]) будущего поэтического полотна, которое венчается картинами торжества русской идеи: «…Затем кончил бы фантастическими картинами будущего: России через два столетия, и рядом померкшей, истерзанной и оскотинившейся Европы, с ее цивилизацией. Я бы не остановился тут ни перед какой фантазией… » [Там же. С. 41]. Как видим, перед нами образец четко сформулированной авторской позиции, которая сложилась в сознании писателя, когда будущее произведение еще только задумано. Очевидно, подобным образом писатель работал и над замыслами собственных романов, прописывая начерно главную идею будущего произведения, воплощению которой будет подчинена работа художника на следующем этапе его создания.
Нагляднее всего это можно пронаблюдать на примере краткого изложения замысла будущего романа «Преступление и наказание» в письме к М. Н. Каткову из Висбадена (когда оформилась только общая идея и обозначились главные персонажи), в котором явственно проступает притчевая парадигма 4, где есть герой – заблудший молодой человек, поддавшийся искушению и совершивший преступление, есть четко выраженная авторская интенция, совпадающая с императивом божией правды и земного закона , которые принуждают героя к покаянию: «…Молодой человек, исключенный из студентов университета, <…> по легкомыслию, по шатости в понятиях поддавшись некоторым странным «недоконченным» идеям, которые носятся в воздухе, решился разом выйти из скверного своего положения. Он решился убить одну старуху. <…> Почти месяц он проводит после того до окончательной катастрофы. <…> Божия правда, земной закон берет свое, и он – кончает тем, что принужден сам на себя донести. Принужден, чтобы хотя погибнуть в каторге, но примкнуть опять к людям; чувство разомкнутости и разъединенности с человечеством, замучило его.
<_> Преступник сам решает принять муки, чтоб искупить свое дело» [Т. 28, кн. 2. С. 136–137].
Следует отметить, что поэтическая мысль, представленная в кратком изложении замысла, стала тем самым ядром, вокруг которого был организован художественный мир романа «Преступление и наказание». В результате работы, которую проделал художник , в процессе воплощения поэтической идеи, притчевый императив уходит в подтекст в соответствии с авторской установкой, но все-таки обнаруживает себя в сюжетно-композиционной организации текста и монологически оформленном эпилоге. Притчевая стратегия авторского дискурса Достоевского реализуется в создании метафорического подтекста, выходящего на поверхность благодаря различным формам актуализации евангельского Слова.
В «Преступлении и наказании» связь с притчей о блудном сыне зафиксирована уже в структуре названия романа (оно двусоставно, так же как и структура притчи: уход - возвращение ). Причем слова преступление и уход связаны по смыслу: преступить - переступить, т. е. выйти за пределы, очерченные определенным укладом, законом (в притче – домом). В связи с этим особое значение приобретает семантика слова порог, отмеченного в тексте романа М. Бахтиным [Бахтин, 1972. С. 292 - 293]. В названии романа благодаря его двухчастной структуре заключена мысль о неотвратимости нравственного закона, составляющая основу евангельской притчи.
Мотив блудного сына прочитывается на метафизическом уровне сюжетного повествования в истории отпадения Раскольникова от Дома и его возвращения. Сюжет романа «Преступление и наказание» укладывается в мифопоэтическую схему: уход - испытание и искушение - возвращение и покаяние . Автор проводит своего героя через все перипетии сюжета притчи о блудном сыне.
В предыстории Раскольникова – жизнь в родительском доме. Это время духовной чистоты героя, о нем ему напоминает мать: «Вспомни, милый, как еще в детстве своем, при жизни твоего отца, ты лепетал молитвы свои у меня на коленях и как мы все тогда были счастливы!» [Т. 6. С. 34]. Достоевский, на первый взгляд, нарушает мифопоэтическую структуру притчи, отец Раскольникова умирает еще до ухода сына, мать же не дождалась своего Роди. Однако содержание притчи о блудном сыне намного глубже просто семейной истории. Проникая в глубинное содержание притчи, Достоевский раскрывает ее сакральный смысл. Фаза ухода героя из Дома Отца выносится за рамки сюжетного повествования. Роман начинается с момента, когда Родион Раскольников, «расточивший имение свое» (что символически изображено в эпизоде заклада отцовских часов), находится в состоянии выбора, не решаясь сделать последний шаг, проявить «своеволие». Фаза искушения блудного сына в истории Раскольникова представлена как искушение его дьяволом («когда я в темноте-то лежал и мне все представлялось, это ведь дьявол смущал меня? а?» [Т. 6. С. 321]) 5. Герой бунтует против Отца Небесного. В разговоре с Соней Раскольников («с каким-то даже злорадством») заявляет: «Да, может, и Бога-то совсем нет» [Там же. С. 246].
В результате реализованной до конца авторской стратегии в романе возникает «притчевое поле», вбирающее в себя родственные идее притчи о блудном сыне евангельские императивы о мытаре, о блуднице, о Лазаре, а также историю крестного пути Христа 6.
Мотив будущего возвращения к Отцу начинает звучать уже в первой части романа в исповеди Мармеладова: «...а пожалеет нас тот, кто всех пожалел и кто всех и вся понимал, он единый, он и судия.<...> И прострет к нам руце свои, и мы припадем... и заплачем» [Там же. С. 2). Мармеладов почти дословно передает слова притчи: «...увидел его отец его и сжалился; и, побежав, пал к нему на шею и целовал его» (Лк. 15: 20). Евангельская строчка «сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся» (Лк. 15: 24) разворачивается в сюжетном повествовании о духовных скитаниях Рас- кольникова, прошедшего через нравственную смерть и через покаяние пришедшего к воскресению.
Чудо воскресения Родиона Раскольникова вписано в пасхальный хронотоп – время страдания и преображения Христа. «Как Христос прошел через обязательное унижение и поругание к высшей славе и торжеству, так и обыкновенный человек должен по православно-христианской концепции пройти через свою «Голгофу» и «пронести свой крест»» [Алексеев, Храпова, 1997. С. 104]. Однако, проводить прямую аналогию между воскресением Христа и воскресением Раскольникова, безусловно, нельзя. Раскольникову, чтобы воскреснуть, нужно было прежде принести свое покаяние , подобно блудному сыну, но, даже находясь в остроге, «он не раскаивался в своем преступлении» [Т. 6. С. 417].
Достоевский символически изображает смерть прежнего Раскольникова и его идеи посредством болезни, которая совпадает с концом поста (в церковном календаре он заканчивается Лазаревой субботой, в которую верующие христиане вспоминают о воскрешении Лазаря Иисусом Христом), Страстной седмицей и Святой седмицей – крестными муками Христа и его воскресением («Он пролежал в больнице весь конец поста и Святую» [Там же. С. 419]). Таким образом, следующая затем сцена воскресения Раскольникова сводит в единый узел три евангельских мотива – блудного сына, Лазаря и Христа.
Изображенное в эпилоге романа воскресение Раскольникова происходит на вторую неделю после Святой, когда по церковному календарю отмечается Радоница, называемая в народе Родительским днем. Возвращение героя к Отцу символически изображено в картине раннего утра на берегу Иртыша, за которым Раскольникову грезится ветхозаветный мир, «точно не прошли еще века Авраама и стад его» [Там же. С. 421]. Авраам в переводе означает «отец множества» (Быт.11: 27). Именно в этот момент в душе Раскольникова поселилась «какая-то тоска», которая «волновала его и мучила» [Там же]. Исходом этой тоски стал его покаянный жест, когда рядом с ним появилась Соня: «…вдруг что-то как бы подхватило его и как бы бросило к ее ногам. Он плакал и обнимал ее колени» [Там же]. Соня в этой сцене, сама не осознавая того, испол- няет роль прощающей стороны, т. е. замещает Отца, любовь и прощение которого воскрешает блудного сына. Очевидно, об этой христианской любви идет речь в эпилоге: «Их воскресила любовь, сердце одного заключало бесконечные источники жизни для сердца другого» [Там же].
Воскресение Раскольникова означает его возвращение в мир людей, к своему роду, от которого он сам себя « отрезал » своим преступлением и своей гордостью. «Осуждая искания самовольной отвлеченной правды, порождающие только преступления, Достоевский противопоставляет им народный идеал, основанный на вере Христовой. Возвращение к этой вере есть общий исход и для Раскольникова, и для всего одержимого бесами общества», – пишет В. С. Соловьев [Соловьев, 1990. С. 40].
Достоевский в своих романах неоднократно прибегает к притчевым финалам, завершая, например, романы «Униженные и оскорбленные», «Преступление и наказание», «Бесы», «Братья Карамазовы» назидательными картинами, представляющими собой «монологически оформленные куски жизни», о чем М. Бахтин писал как о нарушении принципа полифонизма: «Такие выпадающие из полифонического замысла куски можно найти во всех романах Достоевского…» [Бахтин, 1972. С. 117]. Следует заметить, что такой характер авторского дискурса является не случайностью, а реализацией принципиальной установки. Изображая становящиеся, незавершенные сознания героев и не давая им нравственной оценки, автор предполагает ее в подтексте, и этот подтекст «прорывается» в эпилогах и других «монологически оформленных кусках» текста.
Авторская дискурсивная стратегия в произведениях Достоевского не совпадает полностью с нарративной стратегией притчи, которая предполагает разъединение «участников коммуникативного события на поучающего и поучаемого» [Тюпа, 1999. С. 386]. Для стиля Достоевского-художника не характерна моралистическая прямолинейность. Как было убедительно доказано М. Бахтиным, характеристической чертой авторской позиции в произведениях Достоевского является диалогичность по отношению к созданному миру и герою. Отношение автора к читателям также лишено авторитарности. Однако при всей, казалось бы, противоположности дискурсивной стратегии притчи и авторской позиции Достоевского между ними существуют точки соприкосновения. Не случайно Достоевский использует в своих романах («Бесы», «Братья Карамазовы») эпиграфы-притчи, прибегая к авторитету евангельского слова.
Притчевая стратегия в тексте Достоевского проявляется и в той роли, которая отводится автором читателю. Подобно адресату притчи, читатель романов Достоевского вовлекается в сферу диалогизированного авторского слова, подчиняясь скрытой авторской интенции, безошибочно угадывая симпатии и антипатии автора и вынося для себя нравственный урок. Читатель Достоевского, как и адресат притчи, выходит из соприкосновения с поэтической идеей преображенным, как об этом писал Н. Бердяев: «Глубокое чтение Достоевского есть всегда событие в жизни, оно обжигает, и душа получает новое огненное крещение. Человек, приобщившийся к миру Достоевского, становится новым человеком, ему раскрываются иные измерения бытия» [Бердяев, 2004. С. 391].
Таким образом, притчевая стратегия авторского дискурса организует художественный текст и метафизический подтекст, а также проявляется в сфере взаимоотношений с читателем как адресатом художественного высказывания.