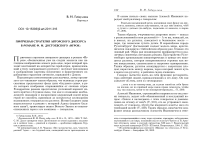Притчевая стратегия авторского дискурса в романе Ф. М. Достоевского «Игрок»
Автор: Габдуллина Валентина Ивановна
Журнал: Проблемы исторической поэтики @poetica-pro
Статья в выпуске: т.9, 2011 года.
Бесплатный доступ
Притчевая стратегия авторского дискурса в романе «Игрок» получает воплощение в изображении картины искушения и нравственного порабощения страстями личности героя, порвавшего с Домом. В контексте почвеннической идеи Достоевского роман «Игрок» прочитывается как художественная метафора, заключающая в себе авторский взгляд на проблему «заграничных русских» и шире - на проблему «Россия - Европа».
Притчевая стратегия, авторский дискурс, мотив искушения, блудный сын
Короткий адрес: https://sciup.org/14748813
IDR: 14748813
Текст научной статьи Притчевая стратегия авторского дискурса в романе Ф. М. Достоевского «Игрок»
П ритчевая стратегия авторского дискурса в романе «Игрок», обозначенная уже на стадии замысла как наглядное изображение «своего рода ада», через который проходит восставший на авторитеты герой-игрок, принадлежащий к типу «заграничного русского»1, получает воплощение в изображении картины искушения и нравственного порабощения страстями личности, порвавшей с Домом.
Передоверяя повествование рассказчику, автор организует его «записки» таким образом, что исповедь героя-рассказчика представляет фазы пути «блудного сына», в роли которого изображен оторвавшийся от «почвы» игрок. В нарративе романа представлен усеченный вариант сюжета притчи о блудном сыне, так как к осознанию необходимости покаяния и воскресения одержимый идеей игры герой не способен, принимая за воскресение иллюзорную возможность отыграться на рулетке. Мотив блудного сына переплетается в романе с историей Адама (первого блудного сына2), травестируя сюжет Ветхого Завета во взаимоотношениях героя с его хозяином — генералом.
В самом начале своих записок Алексей Иванович передает свой разговор с генералом:
В весьма напыщенной речи, насаживая одну фразу на другую и, наконец, совсем запутавшись, он дал мне понять, чтоб я гулял с детьми где-нибудь, подальше от воксала, в парке (V, 208).
Таким образом, очерчивается запретное место — воксал с расположенной в нем рулеткой («— А то вы, пожалуй, их в воксал, на рулетку, поведете») и безопасное место — парк, где позволено гулять детям. В европейском городе Рулетенбурге3 Достоевский создает модель мира, архети-пически связанную с библейским образом рая. Однако это ложный рай. Образ рая неоднократно профанируется в различных сюжетных ситуациях романа. Пространство Руле-тенбурга организовано концентрически: в центре его находится рулетка, которая воспринимается героями как нечто вожделенное, спасительное и запретное одновременно. Таким образом, рулетка ассоциируется с запретным плодом; параллель между парком, через который лежит путь в воксал на рулетку, и райским садом очевидна.
Генерал пытается взять на себя функции регламента-тора действий людей, принадлежащих к его дому. Он сам заявляет об этом, хотя и с оговорками:
...хоть я и не ментор ваш, да и роли такой на себя брать не желаю, но по крайней мере имею право пожелать, чтобы вы, так сказать, меня-то не окомпрометировали... (V, 209).
Алексей Иванович, стремящийся вырваться из-под опеки генерала, задает себе обыкновенный и всегдашний вопрос: «Зачем я валандаюсь с этим генералом и давным-давно не отхожу от них?» (V, 210), его не устраивает зависимость от генерала, «будто бы имеющего власть» над его «свободной волей» (V, 238). Таким образом, намечается конфликт между рассказчиком Алексеем Ивановичем и гене- ралом, в сниженном виде повторяющий библейский конфликт между человеком и Богом, завершившийся изгнанием человека из рая. Ситуация изгнания, опять-таки в сниженном варианте, имеет место в романе. «Мы расстаемся, милостивый государь. <...> С этих пор мы чужие. Кроме хлопот и неприятностей, я не видел от вас ничего. Я позову сейчас кельнера и объявлю ему, что с завтрашнего дня не отвечаю за ваши расходы в отеле» (V, 237), — заявляет генерал Алексею Ивановичу после его выходки с бароном4.
Образ ложного рая, воплощенного в рулетенбургском парке, усилен постоянным упоминанием каштановой аллеи, которая ведет к воксалу. Каштаны, в представлении Алексея Ивановича, — обязательный атрибут немецкой буржуазной идиллии, возмущающей его «татарскую породу»:
У каждого эдакого фатера есть семья, и по вечерам все они вслух поучительные книги читают. Над домиком шумят вязы и каштаны. Закат солнца, на крыше аист, и все необыкновенно поэтическое и трогательное... (V, 225).
Вязы, каштаны, аист на крыше, по мнению рассказчика, — мнимопоэтические образы, прикрывающие прагматическую сущность идеала бюргерского счастья, которому рабски служит вся семья («Все работают, как волы, и все копят деньги, как жиды» — V, 226). Как замечает В В. Борисова:
...отвергая западную «добродетель» — «способность приобретения капиталов», презирая ее в немцах и французах, иронизируя над ее проявлениями в «сахароваре» Астлее, русский герой сам не имеет положительной альтернативы, хотя и выдвигает оппозицию кочевой жизни в киргизской палатке и поклонения немецкому идолу5.
Идея быстрого обогащения на рулетке, которую игрок пытается противопоставить накопительству, в основе своей содержит тот же идеал — деньги. Поэтому бунт героя обо- рачивается его порабощением и, в конечном счете, «продажей души». Неслучайным в связи с этим кажется то, что те же каштаны сопровождают героя на его пути к мнимому счастью:
До воксала было с полверсты. Путь наш шел по каштановой аллее, до сквера, обойдя который вступали прямо в воксал (V, 259)6.
Устаревшее слово «воксал», созвучное привычному для нас слову «вокзал», имеет иное значение. По В. Далю:
...воксал (англ.) сборная палата, зала на гульбище, на сходбище, где обычно бывает музыка7.
Все дороги в этом городе ведут к воксалу. В своем дневнике Алексей Иванович неоднократно фиксирует это всеобщее движение к роковому центру:
Все пошли к воксалу (V, 212).
Сказав это, она кликнула Наденьку и пошла к воксалу, где и присоединилась ко всей нашей компании (V, 214).
...пойдемте к воксалу... (V, 244).
Все герои направляются в сторону воксала, их как будто притягивает вращающееся колесо рулетки. В художественном пространстве романа прочитывается оппозиция парк/ воксал, метафорическим аналогом которой является антитеза эдем/ад. Движение героя от парка к вокзалу приобретает символическое значение жизненного выбора героев.
Пространство игорного дома, одно из самых важных в произведении, отмечено нравственной нечистотой. «Во-первых, мне все показалось так грязно — как-то нравственно скверно и грязно», — описывает свои впечатления от пер- вого посещения рулетки Алексей Иванович (V, 216). Рулетка, по замыслу Достоевского, символизирует ад на земле, где людьми движут нечеловеческие законы:
Но вот что я замечу: что во все последнее время мне как-то ужасно противно было прикидывать поступки и мысли мои к какой бы то ни было нравственной марке. Другое управляло мною... (V, 218).
В письме к Н. Страхову Достоевский, делясь замыслом будущего романа, прямо указывает на эту символику:
...это описание своего рода ада, своего рода каторжной бани. Хочу и постараюсь сделать картину (XXVIII/2, 51).
В описании рулетки в романе привлекают внимание детали, создающие ощущение атмосферы преисподней, вмешательства нечистой силы:
Сволочь действительно играет очень грязно8;
Колесо обернулось, и вышло тринадцать — я проиграл (V, 218);
Колесо завертелось и вышло тринадцать. Проиграли! (V, 265).
Как всегда у Достоевского, числа выполняют символическую функцию, в данном случае указывая на вмешательство инфернальных сил в судьбу героя.
В описании игры на рулетке актуализируются негативные значения полисемантической символики круга, связанные с изображением ада как воронкообразной пропасти, склоны которой опоясаны концентрическими уступами, «кругами» ада9. Жизнь игрока, как шарик, ставится на ру- летку в надежде на чудо. Это состояние переживает каждый, вступивший в игру:
Бабушка едва сидела на месте, она так и впилась горящими глазами в прыгающий по зазубринам вертящегося колеса шарик. <...> Бабушка из себя выходила, на месте ей не сиделось... (V, 263).
Даже семидесятилетняя старуха не в силах устоять, и ее тоже затягивает в круговорот игры. Все находящиеся в пространстве игорного дома по отношению к бабушке располагаются «кругом».
Все наши стеснились тотчас же кругом нее. <...> Кругом говорили и указывали на бабушку (V, 266).
Центр круга — рулетка коррелирует с жертвенником:
По крайней мере, на бабушку смотрели уже как на жерт-вочку (V, 273).
Рулетка — это игра: красного и черного, игровое пространство окрашено в эти два цвета.
Иной день или иное утро идет, например, так, что красная сменяется черною и обратно, почти без всякого порядка, поминутно, так что больше двух-трех ударов сряду на красную или черную не ложится (V, 223).
Символика красного и черного цветов полисемантич-на. Красный — это цвет свежей крови и огня, который, согласно древним верованиям, создал мир и его же разрушит. Красный цвет символизирует жизнь, тепло и рождение, но также и разрушение10. В произведениях Достоевского красный цвет выступает в различных семантических значениях. Как отмечает С. М. Соловьев, «статистика показывает, что красный цвет занимает в спектре Ф. М. Достоевского очень высокое место — 23,8 %, то есть около четверти всех упоминаний цветов»11. Окрашивая пространство рулетки в красный цвет, Достоевский использует негативное значение этого цвета. В свою первую игру Алексей Иванович постоянно ставит на красную:
С каким-то болезненным ощущением... я поставил еще пять фридрихсдоров на красную. Вышла красная. Я поставил все десять фридрихсдоров — вышла опять красная. Я поставил опять все за раз, вышла опять красная (V, 218).
Нагнетание красного цвета усиливает «болезненное ощущение», вызывает чувство тревоги:
Мне стало до того невыносимо от какого-то необыкновенного и странного ощущения, что я решился уйти (V, 218).
Добавление черного цвета в пространство игрового дома еще больше сгущает его. Черный символизирует отрицание света. Попадая в пространство рулетки, игрок становится похож на человека, блуждающего во тьме и не находящего свет, он перестает интересоваться всем, что происходит вокруг. Игроки «ничем не интересуются во весь сезон, а только играют с утра до ночи...» (V, 292).
Сочетание красного и черного — цветов преисподней — придает пространству рулетки инфернальный характер. Вокруг Алексея Ивановича только красное и черное. Весь мир в глазах игрока окрашивается в эти цвета. Эти цвета замечает Алексей Иванович в облике mademoiselle Blanche, образ которой связывается в сознании рассказчика с самим дьяволом («...к этому дьяволу — Blanche...» — V, 232) и с темной стороной игры:
...у ней одно из тех лиц, которых можно испугаться. <...> Глаза черные, белки глаз желтоватые, взгляд нахальный, зубы белейшие, губы всегда напомажены... (V, 221).
Изменчивость и непостоянство mademoiselle Blanche также ассоциируется с вращением игрового колеса:
Черт возьми! Это дьявольское лицо умело в одну секунду меняться (V, 272).
Время рулетки летит с невероятной быстротой. «Я думаю, у меня сошлось в руках около четырехсот фридрихсдоров в какие-нибудь пять минут» (V, 224). Игровое время психологизировано: то увеличивая свой ритм, то замедляя его, оно передает ощущение времени героем. Вместе с тем создается впечатление вмешательства в жизнь людей потусторонних сил. Наибольшую плотность и катастрофичность приобретает художественное время романа ближе к полуночи. С этим временем суток связаны роковые события в жизни игрока. Самый большой выигрыш игрок сорвал ближе к полуночи. «Стояла на ставке вся моя жизнь!» — вспоминает Алексей Иванович (V, 292). В полночь у игорных столов остаются самые отчаянные игроки, одержимые игрой, которые «...играют с утра до ночи и готовы были бы играть, пожалуй, и всю ночь до рассвета, если бы можно было. И всегда они с досадой расходятся, когда в двенадцать часов закрывают рулетку» (5, 292).
Все произошедшее с ним в эту ночь игрок вспоминает как нечто, не поддающееся разумному объяснению:
Действительно, точно судьба толкала меня (V, 294).
Безумную игру Алексея Ивановича пытаются прервать два голоса: один справа, принадлежащий какому-то франкфуртскому жиду, другой над левым ухом — голос дамы «с каким-то болезненно бледным, усталым лицом» (V, 294). Хронотоп игры смещает все привычные представления: «ангел хранитель» и «бес-искуситель» меняются местами и действуют заодно. Вся эта роковая игра сопровождается громким говором и смехом, что еще более усиливает впечатление бесовского наваждения.
В последней главе открывается временная перспектива, будущее, которое фигурирует в тексте как «завтра»:
Чем могу быть завтра? Я завтра могу из мертвых воскреснуть и вновь начать жизнь! (V, 317).
Алексей Иванович понимает, что здесь, в Рулетенбурге, он не сможет измениться, он слишком порабощен игрой. Поэтому его «воскресение» отодвигается на неопределенное время — «завтра», намечается и место «воскресения» — Швейцария.
Впрочем... впрочем, все это покамест не то: все это слова, слова, а надо дела! Тут теперь главное Швейцария! Завтра же, о, если б можно было завтра же и отправиться! (V, 318).
Герой сам себя обманывает, отказываясь от мысли окончательного разрыва с Европой и намечая в качестве своего убежища Швейцарию. «Швейцарское воскресение» воспринимается как несбыточная иллюзия героя:
Вновь возродиться, воскреснуть. <...> Стоит только... теперь уж, впрочем, поздно, но завтра... (V, 318).
Единственный персонаж, освободившийся от губительного обаяния рулетки, — «Антонида Васильевна Тарасе-вичева, помещица и московская барыня, la baboulinka... умиравшая и не умершая...» (V, 250). В изображении автора «Игрока», бабушка — лицо глубоко символическое, прочно связанное с Россией (у нее там «три деревни и два дома» — V, 288). Более того, очевидно, что для автора романа бабушка является олицетворением самой России. Своей бабуленькой Достоевский предвосхищает образ «великой “бабушки” — России» из «Обрыва» И. А. Гончарова12.
Значимой деталью является болезнь Антониды Васильевны — она «без ног». Замечено, что Достоевский часто наделяет своих героев подобным недугом (вспомним его «хромоножку» — Марью Лебядкину, Лизу Хохлакову, «обезноживших» Макара Долгорукова и старца Зосиму). В литературоведении указано, что «болезнь ног» героев Достоевского имеет двойную природу: она может быть как проявлением «одержимости бесом», так и «божьей отметиной», знаком «земной тягости», связи с родной землей13. Очевидно, в случае с бабуленькой имеет значение второй вариант семы «болезнь ног».
Важно, что Антонида Васильевна приезжает в Рулетен-бург именно из Москвы, а не из Петербурга, который, по Достоевскому, «совсем не Россия». Москва, в представлении Достоевского, является воплощением «восточной идеи», как
Петербург — «западной»14. Москва как исконно русский город противопоставляется в романе Европе как образ истинного рая его дьявольскому искажению:
Ох, уж эта мне заграница! — заключил Потапыч, — говорил, что не к добру. И уж поскорее бы в нашу Москву! И чего-то у нас дома нет, в Москве? Сад, цветы, каких здесь и не бывает, дух, яблоньки наливаются, простор, — нет, надо было за границу! (V, 281).
«Игрок» — единственный роман Достоевского, действие которого разворачивается за границей. Европа, в представлении писателя, место, где русский человек подвергается искушениям, это место нравственного разврата и духовного опустошения. Азартная игра возводится Достоевским в символ европейского образа жизни, всей европейской истории. Еще в конце 40-х годов, оценивая события французской революции 1848 года, Достоевский сравнивал происходящее во Франции с карточной игрой, когда «тридцать шесть миллионов людей каждый день ставят словно на карту всю свою будущность, имение, существование свое и детей своих!» (XVIII, 122).
В романе «Игрок» в художественной форме воплотился взгляд писателя на европейскую цивилизацию как губительную для русского человека. Благодаря последовательно проведенной автором притчевой стратегии повествования, а также с учетом контекста публицистических выступлений Достоевского15 роман «Игрок» прочитывается как художественная метафора, заключающая в себе авторский взгляд на проблему «заграничных русских» — «блудных детей» России.
Список литературы Притчевая стратегия авторского дискурса в романе Ф. М. Достоевского «Игрок»
- Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч.: В 30 т. Л., 1972-1990. Т. 28/1. С. 50.
- Чернов А. В. Архетип «блудного сына» в русской литературе XIX века//Евангельский текст в русской литературе XVIII-XX веков. Петрозаводск, 1994. С. 152).
- Гроссман Л. Рулетенбург: Роман -биография. М., 2002..
- Борисова В. В. На rendez-vous с Европой (о романе Ф. М. Достоевского «Игрок»)//Достоевский и современность: Материалы XII международных старорусских чтений 1997 года. Старая Русса, 1998. C. 19.
- Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка: В 4 т. М., 1978. Т. 1. С. 232.
- Шанский Н. М., Иванов В. В., Шанская Т. В. Краткий этимологический словарь русского языка. М., 1971. С. 89.
- Мифы народов мира: Энциклопедия: В 2 т. Т. 1. С. 38-39.
- Соловьев С. М. Изобразительные средства в творчестве Ф. М. Достоевского. М., 1979. С. 218.
- Гончаров И. А. Собр. cоч.: В 8 т. Т. 6. М., 1980. С. 422.
- Смирнов И. П. Преодоление литературы в «Братьях Карамазовых» и их идейные источники//Die Welt der Slaven XLI. 1996. S. 279.
- Сараскина Л. «Бесы»: роман-предупреждение. М., 1990. С. 134-140.
- Пономарева Г. Б. Возврат к народному корню (Московский контекст русской идеи Достоевского)//Достоевский и современность: Материалы XII международных старорусских чтений 1997 года. Старая Русса, 1998. С. 120-127.
- Габдуллина В. И. Европейский дискурс Ф. М. Достоевского («Зимние заметки о летних впечатлениях» и «Игрок»)//Русская литература в современном культурном пространстве: Материалы III всерос. конф.: В 3 ч. Ч. 1. Томск, 2005. С. 161-168.