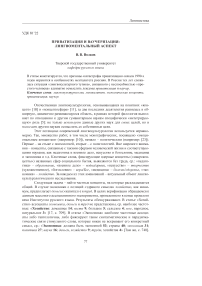Приватизация и ваучеризация: лингвоментальный аспект
Автор: Волков Валерий Вячеславович
Журнал: Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология @philology-tversu
Рубрика: Лингвистика
Статья в выпуске: 3, 2019 года.
Бесплатный доступ
В статье констатируется, что причины «катастрофы приватизации» начала 1990-х годов коренятся в особенностях менталитета россиян. В России тех лет сложилась ситуация «лингвокультурного тупика», связанного с неспособностью «простого человека» адекватно осмыслить лексемы приватизация и ваучер.
Лингвокультурология, менталитет, экономические концепты, приватизация, ваучер
Короткий адрес: https://sciup.org/146281507
IDR: 146281507 | УДК: 81’22
Текст научной статьи Приватизация и ваучеризация: лингвоментальный аспект
Отечественная лингвокультурология, основывающаяся на понятиях «концепт» [18] и «концептосфера» [11], за два последних десятилетия развилась в обширную, динамично развивающуюся область, в рамках которой филология выполняет по отношению к другим гуманитарным наукам специфически «интегрирующую» роль [5]: не только использует данные других наук для своих целей, но и помогает другим наукам осмыслить их собственные цели.
Этот потенциал современной лингвокультурологии используется неравномерно. Так, множество работ, в том числе монографических, посвящено «эмоциональным концептам» (например: [10]), немало – политическим (например: [23]). Первые – на стыке с психологией, вторые – с политологией. Вне широкого внимания – концепты, связанные с такими сферами человеческой жизни и соответствующими науками, как педагогика и военное дело, искусство и богословие, медицина и экономика и т.д. Ключевые слова, фиксирующие ядерные концепты («макроконцепты») названных сфер социального бытия, выявляются без труда, ср.: «педагогика» – образование , «военное дело» – война / армия , «искусство» – творчество (художественное), «богословие» – вера/Бог , «медицина» – болезнь / здоровье , «экономика» – хозяйство . За каждым из этих именований – актуальный объект лингвокультурологического исследования.
Следующая задача – найти частные концепты, на которые раскладывается общий. В случае экономики с позиций «здравого смысла» хозяйство , как минимум, предполагает деньги («капитал») и труд . В целях верификации обращаемся к данным массового ассоциативного эксперимента, проведенного в конце прошлого века Институтом русского языка. Результаты обескураживают. В статье «Хозяйство» ассоциаты экономика , деньги и труд не представлены, ср. наиболее частотные: « Хозяйство : домашнее 14 ; вести 9 ; большое 5 ; сельское 4 ; мое , народное, натуральное 3 » [17, с. 709]. В статье «Экономика» наиболее частотные ассоциаты либо тавтологичны, либо фиксируют такие синтагматические и парадигматические связи стимульного слова, которые никак не вскрывают его конкретный смысл, ср.: « Экономика : должна быть экономной 53 ; страны 40 ; экономная 31 ; политика 27 ; наука 16 ; деньги , хозяйство 9 ; труда , хозяйства 4 » [Там же, с. 740].
Как видим, лексемы деньги, хозяйство , которые составляют ожидаемый центр семантического поля, в данной ассоциативной группировке – не самые частотные, труд представлен лишь в синтагматической связи: экономика – труда .
Налицо «ускользание смысла», обиходные представления об экономике – размыты. Термин экономика , разумеется, внятен специалистам, поскольку раскрывается в системе профессиональных понятий и терминов, но в общенародном языковом сознании с теоретически ожидаемыми обиходными лексемами не связывается, о чем свидетельствуют, помимо психолингвистических, данные академических толковых словарей, где ключевые лексемы деньги, хозяйство не используются в качестве словарных идентификаторов в толкованиях первого значения сущ. экономика (идентификатор ‘хозяйство’ используется в толковании второго значения, идентификатора ‘деньги’ нет вообще), ср. материалы Института лингвистических исследований: « Экономика … 1 . Совокупность производственных отношений, соответствующих данной ступени развития производительных сил общества, господствующий способ производства в обществе определённой общественно-экономической формации, экономический базис общества. Э феодализма. Капиталистическая э. Э. социализма . 2 . Организация, структура и состояние хозяйства (страны, района и т.п.) или какой-л. отрасли хозяйственной деятельности. Э Севера. Э страны. Э транспорта. Э. торговли. Кризис экономики Теневая экономика …» [13, с. 1516]. Аналогичные толкования – и в словаре Института русского языка [21, с. 1121].
Поскольку в приведенных толкованиях «человеческий фактор», человеческое «я» не просматривается, приходится предположить, что экономика для русского языкового сознания – «дегуманизированная» сфера. «Жизнь» – это одно, «экономика» – другое, особняком. Видимо, поэтому на фоне таких уже вполне устоявшихся терминологических сочетаний, как политическая (лингво)концептология или эмоциональные концепты , словосочетания типа экономические концепты или экономическая (лингво)концептология выглядят странновато.
А между тем экономика – материальная основа самого нашего существования, этимологическая внутренняя форма сущ. экономика связана с представлением о доме, а буквальная калька древнегреческого oikonomia ‘управление домом > вообще управление, распоряжение, устройство’ (от oikos ‘дом, жилище; отечество; имущество, состояние; семья, род’ и nomos ‘обычай, закон’) – это «домо-законие», или, в расширительном герменевтическом прочтении – «домостроительство». Однако в довольно многочисленных работах, посвященных концепту «Дом», лексема экономика (в отличие от хозяйства ) не представлена (например: [3]).
По отношению к «экономическим концептам» лингвокультурология – вроде человека, который, воздевая очи горе, не замечает, что у него под ногами.
В романе братьев Стругацких «Волны гасят ветер» некий инопланетянин «противным таким, тоненьким голоском пропищал» о землянах ехидный стишок: «Видит горы и леса, облака и небеса, а не видит ничего, что под носом у него» (цит. по: [4]). Так и филология: о высоком, о тончайших движениях души – множество работ (к примеру, необозримое количество диссертаций, связанных с представлениями о любви), а о «хлебе насущном», об экономической, хозяйственной жизни – почти ничего (заметим: «почти» – не значит «совсем» ничего; ср., например: [14; 22; 1; 16; и др.]; в данном случае имеем в виду «несоразмерно мало»).
Один из самоочевидных способов конструирования исходного перечня лингвокультурных концептов, отражающих какую-либо сферу человеческой жизни, – выявление ключевых слов, бытующих в данной сфере, в том числе новых. Богатый материал для размышлений такого рода дает, например, коллективная монография «Русский язык конца XX столетия», где акцентируются такие лексемы, как рынок, приватизация, ваучер, инфляция и т.п., но звучит при этом существенное замечание, к сожалению, не получившее в этой книге дальнейшей разработки: «Большинство ключевых экономических терминов оказались “на слуху” у значительной части общества. Они стали материалом для языковой шутки, обыгрывались на эстраде, осваивались в непринужденной бытовой речи, не становясь при этом для многих более понятными в своей экономической сути » [8, с. 163] (выделено в тексте мною. – В. В.).
Это о словах, новых или относительно новых для русского языка и русского языкового сознания. Однако то же самое можно сказать и о словах, хорошо известных, издавна бытующих в общем употреблении.
Поскольку опереться на дефиниции толковых словарей с целью выявления опорных лексем, составляющих обыденное понятие «Экономика», не удается, воспользуемся феноменологическими технологиями – с позиций «здравого смысла» назовем те связанные с экономикой «человеческие реальности», «доступ к которым и возможность описания которых укоренены в самом сознании и человеческом бытии» [24, с. 1035]. Если считать экономику дескриптором (и далее «макроконцептом»), то, оставаясь в пределах антропоцентрических (не «экономоцентрических») представлений, получаем следующий минимальный ряд лексем и соотносительных с ними экономических концептов: Экономика – деньги, труд, зарплата, доход .
Обращение, с одной стороны, к научным определениям, с другой стороны, к ассоциативным материалам вскрывает поразительный факт, равно просматривающийся в материалах обоих родов: названные феномены связаны только по параметру ‘деньги’, из чего следует, что семантический центр концептосферы экономического – именно «Деньги»; связи экономики, труда, зарплаты и дохода между собой в названных материалах не отражены, а следовательно, они находятся в отношениях взаимоотчужденности, напрямую друг с другом не связываются.
Дефиниции науки экономики. « Труд – целенаправленная деятельность трудоспособного населения, предусматривающая создание с помощью средств производства материальных ценностей и оказание услуг» [6, с. 167], – нет ни одной названной лексемы. То же самое – с понятиями «экономика» и «доход». Частичное исключение: « Заработная плата – стоимостная категория, характеризующая превращенную форму стоимости и цену рабочей силы; форма распределения части стоимости между работниками в соответствии с их долей участия в совокупном общественном труде» [Там же, с. 44], – однако в определении речь идет не о личном , а об общественном труде .
Материалы ассоциативного словаря [17]. В ассоциативном поле «Деньги» лексемы экономика нет вообще, остальные названные – в категории низкочастотных ( доход 2 ; зарплата , труд 1 ). Деньги представлены во всех названных ассоциативных полях ( экономика, труд, зарплата, доход ), но сами эти стимульные слова в качестве ассоциатов в названных полях не представлены, – следовательно, поля по этим параметрам не пересекаются, напрямую в русском внутреннем лексиконе не связаны.
Как одним словом охарактеризовать эту особенность концептосферы экономического? Названные феномены находятся на значительных семантических расстояниях, непосредственно друг с другом не связаны либо связаны очень слабо. Что это? «Семантическая несвязность», «расщепленность», «взаимоотчужденность»? Дело, конечно, не в терминологическом ярлычке, а в сути явления.
Отчуждены , «расчуждены» (в терминологическом смысле отчуждения ) не только отдельные концепты внутри «Экономики», но и сама эта частная концеп-тосфера – «отчуждена» от других составляющих русского языкового сознания.
«Отчужденность» проявляется, в частности, в том, что экономическая проблематика оказывается практически вне внимания лингвокультурологов. По некоему молчаливому соглашению, бессознательному «пресуппозитивному акту» экономика оказывается как бы «вне культуры». Разумеется, никто в действительности так не думает, но – «так получается».
Думается, этот «отрицательный результат» семиотически значим – как свидетельство отчуждения экономической концептосферы от других частных концеп-тосфер национального языка – а следовательно, и от других составляющих национального и индивидуального сознания.
Экономическая сторона общественной жизни в рамках русского менталитета оказывается несогласованной с другими сторонами бытия народа. Экономика – нечто вроде «параллельного мира», с которым любой человек неразрывно связан, но существа которого, если только он не профессиональный экономист, не знает. С другой стороны, профессиональные экономисты – как органичная часть этого «параллельного мира» – едва ли в полной мере осознают его связи с другими сторонами человеческого бытия, иначе бы не возникали и не бытовали у нас такие монструозные именования (и одновременно «руководства к экономическому действию»), как бюджетники, минимальная потребительская корзина, минимальный размер оплаты труда , «минимальность» которых рассчитывается явно не «от человека», а от чего-то, что очень далеко от повседневной жизни реальных людей.
Причина «отчужденности» концептосферы экономического (а вслед и одновременно с ней – и места реальной экономики в национальном самосознании и национальной жизни) – в особенностях русского национального характера. В них – и причина той экономической катастрофы начала 1990-х, которую обычно называют «катастрофой приватизации».
В фундаментальном «Словаре русской культуры» Ю.С. Степанова с кон-цептосферой экономического напрямую связана лишь статья «Деньги, бизнес», которая открывается четким разъяснением специфики «русского отношения» к деньгам, экономической корысти/бескорыстию, к стяжательству: «Мы живем в стране, где бесплатная трудовая услуга вдове, старику, больному все еще, слава богу, считается нормой. Мы выезжаем (на время или навсегда) в другие страны, где бесплатная трудовая услуга вдове, старику, больному считается странностью или глупостью. …в таком “нестяжательном” отношении к деньгам – одна из самых отчетливых духовных границ русской культуры» [18, с. 560]. Именно на этом ментальном поле в начале 1990-х годов проводилась приватизация – «сверху», исходя из соображений экономической целесообразности, но без учета (или наоборот – с чьим-то очень лукавым расчетом?) психологических факторов, национального характера, в структуре которого «Деньги» и «Собственность» – феномены периферийные, с глубинными структурами национального «я» связанные весьма слабо; наконец, без учета факторов педагогического, «образовательного» характера, в условиях практически полной экономической безграмотности населения, поскольку для огромного большинства экономическая жизнь складывалась всего из двух компонентов: Труд (причем с установкой на бескорыстие) – Зарплата (с установкой на уровень, достаточный лишь для того, чтобы жить очень скромно).
Что такое приватизация – для языкового сознания россиян начала 1990х годов, которых на протяжении многих десятилетий воспитывали в убеждении, что частная собственность – зло? У которых не было никакого личного опыта соприкосновения с «частной собственностью» на средства производства? С какими структурами внутреннего лексикона это новое для русского уха слово должно было связаться? И могло ли связаться – для большинства людей с собственно русским (и шире – российским) менталитетом?
Руководство страны в те годы приватизацию связало с ваучером и ваучеризацией . Еще одно новое – и уж совсем непонятное слово.
Сначала о лексеме приватизация и феномене приватизации.
Внутренняя форма сущ. приватизация вполне прозрачна – но только для человека, обладающего некоторым образованием (желательно высшим). Семантический и формальный этимон – лат. privatus ‘частный, находящийся в личной собственности; не занимающий государственных постов, не имеющий общественного положения; обыкновенный, простой’ – от privare ‘отнимать, лишать’ < privus ‘отдельный, отдельно взятый, каждый порознь; каждый; особый, собственный; своеобразный; освобожденный, свободный’. Соответственно приватизация (от приватизировать ) – «передача государственного или муниципального имущества в частную собственность».
Но это лишь сигнификат, причем не столько обыденное, сколько научное понятие. Чтобы обрести связь с реальностью, в живом языковом сознании приватизация должна была обрести «вещные» (денотативные, а лучше – конкретно-референциальные) смыслы, обрасти некоторым коннотативным ореолом – ценностными и эмоциональными смыслами.
Юридическое определение понятия «приватизация», включающее целый ряд денотативных отсылок, казалось бы, дает возможность наглядно представить, чем может владеть отдельный человек как собственностью: « Приватизация … передача государственной или муниципальной собственности (жилищного фонда, земельных участков , промышленных предприятий, банков, предприятий и организаций транспорта, связи, торговли, зданий и др. объектов недвижимости, культурных ценностей и т.д.) за плату или безвозмездно в частную собственность » [20, с. 760]. Однако «простой человек» представить мог себя собственником разве что жилья , квартиры , но никак не промышленного предприятия или банка .
Этот вполне ожидаемый психологический результат нагляден в академических ассоциативных данных (приводим ассоциаты с частотой до 1): «Приватизация: ваучер 15; обман 6; за, квартира, квартиры, прихватизация 5; жилья, покупка, чек 4; собственность 3; бред, глупость, идет, квартир, предприятия, реклама 2…» [17, с. 506]. Бросаются в глаза резко негативные реакции, особенно каламбурное прихватизация, в котором отчетливо сказалась проницательность простых людей: приватизация – не для них, а для «сильных мира сего», жаждущих отхватить не то что куски пожирнее – взять сразу всё, ср. словарные данные, собранные по горячим следам тех лет: «Прихватизация… налож., лексич. неол., сниж., неодобр. Прива- тизация как средство незаконного обогащения тех, кто её проводит… …теперь мы упрямо хотим пустить с молотка последний и лучший ресурс – недвижимость. Но тогда это не приватизация. И грубоватое, но более точное название этому скоропалительному процессу в народе уже родилось – “прихватизация”. Московские новости, 1991, 15 дек. Жутко помыслить, какие коллизии будут сотрясать общество вокруг номенклатурной прихватизации… Известия, 1992, 24 марта» [19, с. 254].
Приватизация как разгосударствление , обусловленное неспособностью плановой экономики справляться с всевозрастающей сложностью производства и распределения, обусловленное необходимостью замены вертикальных структур управления горизонтальными связями, была абсолютной экономической необходимостью, но… Ситуацию лучше всего характеризует ставшая крылатой фраза В.С. Черномырдина (произнесенная, правда, по другому поводу): «Хотели как лучше, получилось как всегда». «Предполагалось, – читаем в современной политической энциклопедии, – что это стимулирует личную заинтересованность каждого россиянина в результатах реформ и создаст класс здоровых, честных предпринимателей» [2, с. 261]. Но «предприниматель» – это особый человеческий тип , отнюдь не «каждый россиянин».
Для «каждого россиянина» советских лет, для «массового», простого человека, которого насмешники до сих пор называют «хомо советикус», но который отнюдь не был наивным и глупым, якобы зомбированным коммунистической пропагандой, а просто был (и остается) – другим по сравнению с «западным» человеческим типом, ориентированным на личное преуспеяние, предприниматель – слово скорее с пейоративной окраской, отнюдь не с мелиоративной. Заметим: базовое действие в экономической сфере фиксируется конверсивами купить / продать , при этом действие продажи в русском менталитете оценивается негативно. Об этом свидетельствует, в частности, семантика именований субъектов продажи, которая «указывает на множество негативных признаков, которые приписываются или ассоциируются в русскоязычном социуме с человеком, профессиональная деятельность которого предполагает его обязательное участие в акции денежной передачи объекта» [15, с. 177], типа сбытчик, толкач, барыга, левак, маклак, торгаш, лавочник . Воспитанные в советской школе, граждане России в те годы могли ассоциировать предпринимателя только с негативными хрестоматийными образами общего курса литературы: с «приобретателем» Чичиковым, накопителем Собакевичем, с купеческим «темным царством» пьес Островского, – но никак не с тем, кто ведет в некое светлое демократическое будущее.
На этом фоне появляется ваучер .
Юридическое определение понятия (в актуализованном значении): « Ваучер … 3) в РФ приватизационный чек на предъявителя для целевого приобретения ценных бумаг с ограниченной сферой обращения» [20, с. 112]. « Приватизационный чек – в РФ государственная ценная бумага целевого назначения, имевшая номинальную стоимость в рублях, являвшаяся документом на предъявителя» [Там же, с. 760]. Обратим внимание на специфическое уточнение: в РФ … Надо полагать, что «тому самому» российскому ваучеру не было аналогов – во всяком случае, таких, которые могли бы быть знакомы или с которыми легко можно было бы познакомить россиян – в качестве примера, что такое ваучер и что с ним можно делать.
Что в сигнификате этого «чека» могло быть ясно/неясно «простому человеку» тех лет? Ясно: стоимость в рублях и на предъявителя (как деньги). Неясно: ценная бумага . Родовое понятие с целым рядом не менее непонятных видовых, например: облигация, вексель, чек, сертификат, акция … Из всего этого ряда простой человек советских лет мог иметь дело только с чеком в магазине – как прямым эквивалентом денег .
Далее – функции и референциальное содержание. Требовалось понять, что ценные бумаги не только имеют некоторую «номинальную стоимость», но могут приносить деньги. Ваучер можно обменять на акции . Здесь условный «массовый» человек, выражаясь современным языком, окончательно «зависает»: что такое акции ? где их покупают/продают? какие акции можно/нужно/не нужно приобретать? какая от этого выгода ? кто такой акционер ? и т.д.
Ситуация лингвокультурного тупика. Требовалось войти в совершенно новую парадигму: от привычной «труд → деньги (зарплата) → товар» к «деньги (ваучер → акции) → дополнительные деньги». Логика совершенно непривычная: деньги могут порождать деньги , причем без труда . И чуждая русскому менталитету.
Сегодня, когда мы уже знаем, что такое акции и другие ценные бумаги , эти затруднения понять нелегко. По свидетельствам тех лет, с одной стороны, слово ваучер достаточно быстро вошло в обиход, а с другой стороны, стоящий за ним феномен ( ваучер как особая «ценная бумага») осмыслению поддавался с колоссальным трудом.
Свидетельство первого рода: «… Своего предела негодование автора <в связи с использованием непонятных заимствованных слов> достигает на теме вауче ров... И тут уж - хоть ваучерами называй, хоть чеками, хоть приватизационными. Тише, ораторы! Ваше слово, товарищ Ваучер ! Или - господин Ваучер ? (Век, 1992, 11). Встреченное с неприятием, это слово вскоре дало производные ( ваучери-зировать, ваучеризация и ироническое волчеризация ) и усилием масс-медиа (с октября 1992 года издается даже особая газета Ваучер ) в кратчайший срок было освоено настолько, что, как сообщила газета “Известия” 25 августа 1992 года, в некой семье Ваучером был окрещен… новорожденный младенец!» [9, с. 87–88].
Свидетельство второго рода (С.Г. Кара-Мурза в статье «Интеллигенция после перестройки: пора оглядеться», «Правда», сентябрь 1992 г.): «Речь о демократии может идти, лишь если граждане понимают смысл всего происходящего. Но ведь язык, на котором вполне сознательно говорят власти, не понимает подавляющее большинство не только населения – депутатов парламента! Вслушайтесь в доклады Гайдара и посмотрите на лица депутатов в зале – они отключаются на третьей фразе, как только начитавшийся плохо переведенных учебников премьер запускает свои “ваучерные облигации” или “кривые Филипса”. Да разве ответственно информирующий (не говорю – советующийся) политик употребляет такой язык! И разве не знает внук двух писателей, что элементарная вежливость запрещает использовать выражения, которых не понимает (или может неправильно понять) слушатель?» [7]
На исходе ХХ века, размышляя о лавинообразном росте «внешних заимствований», в том числе экономической лексики, лингвисты констатировали: «Пресса, радио и телевидение распространяют новые термины настойчиво и безостановочно, делом доказывая, что язык массовой коммуникации развивается с опережением и сильно воздействует на все стили речи» [9, с. 88–89]. Вопрос о том, как воздействуют и «внешние заимствования», и общая актуализация экономической лексики не только на «стили речи», но и – что несравненно важнее – на общественное сознание, как они взаимодействуют с лингвоконцептуальными структурами и ментальностью россиян, к сожалению, до настоящего времени остается в числе «филологических маргиналий», хотя по общественной значимости должен бы быть в самом центре внимания филологов.
Приватизация, ваучер … Эти слова выступали как представители иного – не собственно русского, российского – менталитета. Осмысление их семантики, понимание назначения стоящих за ними реальных феноменов экономической жизни требовало другой лингвоментальной парадигмы – по сравнению с той, к которой за десятилетия привыкли советские люди. Деньги не воспринимались как средство «делать деньги » (логика ваучеров, акций ). Деньги воспринимались как заработок и обеспечение повседневных нужд. «Накопил – и машину купил» – этот лозунг Сбербанка советских лет был вполне понятен. Формула «Вложил (деньги) – и получил (еще деньги)» оказалась удобной лишь для манипуляторов.
«Катастрофа приватизации» – не только обнищание большей части населения. Это столкновение менталитетов. «Архитекторы приватизации», видимо, совершенно не понимали, в чем своеобразие народа той страны, где «приватизация» проводится. Очень удачной представляется емкая формулировка современного исследователя (одновременно нынешнего министра культуры РФ) В. Р. Мединского той особенности нашего менталитета, которую обсуждаем: « Материальная неприхотливость и духовная роскошь – вечный парадокс Великороссии . <…> Россиянам <…> меньше <чем европейцам> было свойственно стремление к механическому зарабатыванию денег, к тому, чтобы их копить, растить, холить, лелеять, приумножать накопленное, наращивать собственность» [12, с. 291]. И потому так невероятно сложно было простому россиянину понять: что такое ваучер и зачем он нужен…
Список литературы Приватизация и ваучеризация: лингвоментальный аспект
- Агаркова Н. Э. Концепт «Деньги» как фрагмент английской языковой картины мира: На материале американского варианта английского языка: дис. … канд. филол. н.: 10.02.04 / Н. Э. Агаркова; Иркутский гос. лингв. ун-т. Иркутск, 2001. 171 с.
- Большая актуальная политическая энциклопедия: Настольная книга современного политика: 1000 актуальных понятий современной политической жизни / Ред.-сост. А. В. Беляков, О. А. Матвейчев. М.: Эксмо, 2009. 420 с.
- Валеева Д. Р. Репрезентация концепта «Дом» в русской языковой картине мира: автореф. дис. … канд. филол. н.: 10.02.01 / Д. Р. Валеева; Казанский (Приволж ский) федер. ун-т. Казань, 2010. 20 с.
- Волков В. В. Основы филологии: антропоцентризм, языковая личность и прагмастилистика текста: Курс лекций / Тверской гос. ун-т. Тверь, 2013. 147 с.
- Волков В. В. Филология в системе современного гуманитарного знания: Учеб. пособие / Тверской гос. ун-т. Тверь, 2013. 220 с.
- Зайцев Н. Л. Краткий словарь экономиста. М.: ИНФРА-М, 2007. 224 с.
- Кара-Мурза С. Г. Опять вопросы вождям [Электронный ресурс] // RoyalLib.com. URL: https://royallib.com/book/kara-murza_s/opyat_voprosi_vogdyam.html (дата обращения: 23.08.2019).
- Китайгородская М. В. Современная экономическая терминология (Состав. Устройство. Функционирование) // Русский язык конца ХХ столетия (1985- 1995). М.: Языки рус. культуры, 1996. С. 162-236.
- Костомаров В. Г. Языковой вкус эпохи: Из наблюдений над речевой практикой масс-медиа. М.: Педагогика-Пресс, 1994. 248 с.
- Красавский Н. А. Эмоциональные концепты в немецкой и русской лингвокультурах. М.: Гнозис, 2008. 374 с.
- Лихачев Д. С. Концептосфера русского языка // Известия РАН. Сер. лит. и яз. 1993. № 1. С. 3-9.
- Мединский В. Р. О русском воровстве, душе и долготерпении. М.: ОЛМА Медиа Групп, 2013. 528 с.
- Новейший большой толковый словарь русского языка / Гл. ред. С. А. Кузнецов. СПб.: Норинт; М.: РИПОЛ классик, 2008. 1536 с.
- Орлова Т. С. Креативность экономического сознания личности: автореф. дис. … докт. филос. н.: 09.00.01 / Т. С. Орлова; Тюменский гос. ун-т. Тюмень, 2006. 34 с.
- Осипова А. Г. Купля / продажа // Антология концептов: В 2 т. Т. 2. Волгоград: Парадигма, 2005. С. 166-183.
- Палеева Е. В. Способы вербализации концепта ДЕНЬГИ средствами английского и русского языков: автореф. дис. … канд. филол. н.: 10.02.19 / Е. В. Палеева; Курский гос. ун-т. Курск, 2010. 18 с.
- Русский ассоциативный словарь: В 2 т. Т. 1. От стимула к реакции: Около 7000 стимулов. М.: Астрель: АСТ, 2002. 784 с.
- Степанов Ю. С. Константы: словарь русской культуры. М.: Акад. Проект, 2001. 990 с.
- Тираспольский Г. И. Словарь политической борьбы: Материалы 1988-96 гг. Сыктывкар: Ин-т управления и международных связей, 2006. 400 с.
- Тихомирова Л. В., Тихомиров М. Ю. Юридическая энциклопедия. М.: Изд. Тихомирова М. Ю., 2008. 1088 с.
- Толковый словарь русского языка с включением сведений о происхождении слов / Отв. ред. Н. Ю. Шведова. М.: Азбуковник, 2008. 1175 с.
- Томашевская К. В. Концептосфера экономики в разножанровых текстах // Проблемы современной экономики: Евразийский международный научно-аналитический журнал. 2006. № 1/2 (17/18) [Электронный ресурс] // Проблемы современной экономики. URL: http://www.m-economy.ru/art.php?nArtId=999 (дата обращения: 23.08.2019).
- Шейгал Е. И. Семиотика политического дискурса: дис. … докт. филол. н.: 10.02.01 / Е. И. Шейгал; Волгоградский гос. пед. ун-т. Волгоград, 2000. 440 с.
- Энциклопедия эпистемологии и философии науки / Гл. ред. и сост. И. Т. Касавин. М.: Канон: Реабилитация, 2009. 1248 с.