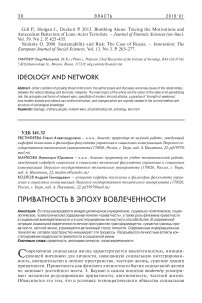Приватность в эпоху вовлеченности
Автор: Евстифеева Елена Александровна, Майкова Элеонора Юрьевна, Козлов Андрей Геннадьевич
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Коммуникации и общество
Статья в выпуске: 1, 2016 года.
Бесплатный доступ
В статье раскрывается междисциплинарное (юридическое, социально-политическое, социологическое, психологическое) содержание понятия «приватность», а также роль феномена приватности в социальной жизнедеятельности и в конституировании личностного способа бытия. В современной ситуации социальной вовлеченности личное пространство трансформируется, сужаются границы приватности, частной жизни, утрачивается автономный статус личности. Современные информационные технологии, сетевое пространство инициируют эти процессы. Раскрываются личностные аспекты конституирования модальности приватности в социальной жизни.
Приватность, автономия личности, эпоха вовлеченности
Короткий адрес: https://sciup.org/170168141
IDR: 170168141 | УДК: 141.32
Текст научной статьи Приватность в эпоху вовлеченности
Современная социальная жизнь характеризуется вовлеченностью, инициирующей внешнюю для личности, навязанную социальную интегрированность, вмешательство в личное пространство, частную жизнь, сужение границ приватности. Приватность как феномен личностного бытия социальной жизни не занимает достойного места. З. Бауман в самом понятии modernity усматривает механизм редуцирования приватности, автономности, частной жизни. Объясняется это тем, что в условиях технократического общества социальная рациональность построена на критериях предсказуемости, унификации, про-цедурности, исполнительности поведения, поэтому она исключает автономность, неконтролируемость, некодифицируемость любого действия, поступка. Любая социальная организация старается нейтрализовать деструктивное воздействие частного, приватного поведения. С социетальной точки зрения частные, приватные действия – это «действия, которые не соответствуют критериям цели или процедурным определениям, объявляются несоциальными, иррациональными. А способ, которым организация социализирует действия, включает в себя как обязательное следствие приватизацию нравственности» [Бауман 2010: 252].
Элиминацию феномена приватности в современности анализирует Э. Гидденс. Он дает феноменологическое описание современности в диалектически соотносящихся структурах опыта, выделяя приватность и вовлеченность как пересечение прагматического принятия и активизма. «Границы тайного и явного изменяются, поскольку многие формы деятельности, которые прежде не пересекались друг с другом, теперь совмещаются в одних публичных сферах» [Гидденс 2011: 258].
Соглашаясь с всемирно известными социологами в оценке значимости социального продуцирования феномена приватности, рассмотрим другие аспекты конституирования модальности приватности в современной социальной жизни.
Приватность – феномен, релевантный автономии личности, ее онтопсихоло-гическое основание, семантический декодер. Поэтому все вызовы и риски существования автономного статуса личности отражаются на конструкциях и деструкциях приватности. Приватность – это человеческая универсалия, построенная на тайне и ценности частного бытия, которые необходимы для защиты автономии личности и ее достоинства. Приватность формирует и сохраняет самость человека, поддерживает его личную идентичность. В приватной области человек самоопределяется. Приватность, являясь балансом индивидуального и социального аспектов жизни человека, обеспечивает безопасность автономии личности, которая сегодня девальвируется. Об этой актуальнейшей социальной проблеме пишут мыслители, имеющие разные парадигмальные установки. Они раскрывают приватность как выражение защищенной свободы; защиту от социального надзора, контроля, тотального наблюдения; риск-феномен в процессе становления киберэтики; осознание ценности права на неприкосновенность частной жизни в условиях угроз социального и психологического принуждения; как способность контролировать обстоятельства собственной жизни, возможность выбора и ответственность за него.
Социально-эволюционная роль приватности заключается в том, что она презентирует сокровенность человеческого бытия, цивилизационные формы самоконтроля, индивидуальное самовосприятие, внутреннюю субъективность, способность к рефлексивному поведению. Не случайно поэтому сегодня актуализирована значимость приватности как защиты от безмерного социального контроля, тотального наблюдения со стороны системных и несистемных организаций. Как отмечал М. Фуко, главная цель современного человека – это наблюдать, оставаясь невидимым [Фуко 1999].
Смысл понятия «приватность» связан со значениями таких понятий, как «право на личную собственность», «личное дело», «частная жизнь», и восходит к опыту разделения физической и социальной среды, к личному контролю над собственной жизнью, к ответственности за совершаемый выбор.
В новой философской энциклопедии приватность определяется как «сфера жизненных интересов, жизнедеятельности, эмоций, привязанностей отдель- ного человека, частного лица, индивида, обособленная от других общественных сфер… В этой сфере человек автономен, но не изолирован… В приватной сфере конкретизируются основные права человека (право на жизнь, продолжение рода, право на жилище, благополучие, свободу воли и др.). Приватность – сфера непосредственного общения людей на минимальной социальной дистанции, в которой образуются микропроцессуальные отношения власти…»1.
Приватность – это междисциплинарное понятие, семантика которого постоянно трансформируется, углубляется. Анализ правового, социальнополитического, социологического, психологического дискурсов по теме приватности показывает, что содержание этого понятия отражает амбивалентность социального бытия. В правовом дискурсе выделяется узкое (в терминах интимности) и широкое (как право оставаться одному) значения понятия «приватность». Приватность концептуализируется и в рамках плюралистического видения этого феномена, где она дифференцируется по индикатору вреда, причиняемого ее нарушениями, и как конфликт интересов безопасности и приват-ности 2 .
Исследователи конституционного права на неприкосновенность частной жизни отмечают такую его специфику, как психологичность и индивидуальность. Она проявляется в индивидуальности субъективного мира, чувств, эмоций, переживаний человека. Принятие решений, которое является перманентным процессом, имеет личностную окраску, индивидуальные особенности. Не случайно в конце ХХ в. разрабатывается психологическая теория принятия решений, которая комплементарна классической теории принятия решений.
Право на приватность вместе с другими правами человека имеет социальное предназначение, которое проявляется в определенных социальных функциях и служит поддержанию социальной кооперации. В частности, Всеобщая декларация прав человека содержит подтверждение социальной функции прав человека, указывая на необходимость их охраны властью закона «в целях обеспечения того, чтобы человек не был вынужден прибегать в качестве последнего средства к восстанию против тирании и угнетения» 3 .
В России и других странах гарантии приватности закреплены в Конституции РФ. Однако реальная ситуация, касающаяся права человека на частную жизнь, во многом отличается от правовой, нормативной модели и являет собой несовпадение сущего и должного. Все чаще в СМИ появляются сообщения о прослушивании разговоров частных лиц по сотовой связи, о доступе к корреспонденции по электронной почте и других нарушениях приватной жизни человека. Это требует рефлексии границ такого имманентного социальной жизни конститутива, как социальный контроль, который противостоит желанию и стремлению человека к приватности. Социальный контроль как неотъемлемый элемент социальной жизни представляет собой проявление власти общества, ограничивая индивидуальное и личностное пространство. Основным механизмом социального контроля является наблюдение за исполнением различных обязанностей и запретов. Проект паноптикума с «архитектурой выбора», сконструированный И. Бентамом для тотального подчинения власти и создания иллюзии выбора в современной социальной жизни, непрерывно технологизируется и модернизируется. Усложнение и дифференциация социальной жизни приводят к тому, что социальный контроль становится все более пристальным и изощренным. Однако тотальное наблюдение, выражающееся в не контролируемом со стороны человека телефонном и электронном прослушивании, сборе и накапливании колоссальных объемов персональных данных с помощью информационных технологий, приводит к деструктивным социальным последствиям. Это ярко проявляется через вторжение в личную сферу, частную жизнь. В эпоху вовлеченности важно осознавать нарушение меры корреляции личностного и социального контроля, а также особую значимость личностного контроля в становлении автономии личности. В основании личностной автономии лежит самоконтроль, который представляет собой свободу индивидуального выбора, волевую способность, которая может развиваться с приобретением рефлексивных навыков и опыта принятия решений. Формирование самоконтроля построено на ответственности, понимаемой как самоизменение, как переход от внешнего локуса контроля к внутреннему.
Как справедливо полагают ряд исследователей, сегодня понятие «частная жизнь» в границах юридического его толкования сужается. Заметим, что нарушение права на приватность и аксиологические последствия этого ярко демонстрируются в современной жизни с помощью каналов сетевого пространства. Об этом заявляют исследователи проблемы киберэтики, где феномен приватности обнаруживает свои специфические коннотации [Войскуновский, Дорохова 2010]. Известно, что сегодня технологии искусственных интеллектуальных систем позволяют тотально контролировать человека, а современные способы слежения фиксируют любую деятельность человека. Тайна личной жизни обнажается, ее сокровенность обесценивается.
В социально-политическом и социологическом дискурсах феномен приватности раскрывается через координаты свободы. Социальный контроль, манипулирование человеческим поведением усиливаются со стороны государства и несистемных организаций, активно использующих киберпространство для слежения за личной и приватной жизнью. Социальное стремительно наступает на границы приватности, а современные информационные и другие технологии используются как эффективный инструмент, предполагающий несанкционированное вмешательство в частную жизнь.
Анализ современного психологического дискурса по теме приватности показывает, что приватность – это необходимая составляющая процессов коммуникации и общения, в основе которой лежат субъектные качества человека и личности, в т.ч. свобода, ответственность, личностный контроль. Приватность является условием сохранения автономии личности, что следует из ее регулятивной и коммуникативной функций по самоопределению и поддержанию признаков личной идентичности, созданию и защите самости ( self ). Психологи дифференцируют приватность как процесс персонализации человека, выделения своего, личного из общего, как потребность в присвоении чего-либо в личное пользование.
Философская аналитика феномена приватности позволяет сделать вывод о том, что приватность – это суверенная область, где главенствует «Я» как самость. Приватность как феномен личностного бытия формируется в процессе социализации. Приватности, построенной на тайне, противопоставляется открытость, «обнаженность» в коммуникациях и межличностных отношениях «без обременения» в сетевом пространстве.
Рефлексия приватности, манифестирующей феномен автономии личности, показывает, что приватность представляет суверенную область, является константой и индикатором автономии личности. Однако социальное бытие с доминантой вовлеченности, ведущей к вмешательству в личное пространство, ущем- ляет автономный статус личности и разрушает зону ее приватности. Несмотря на то что приватность является универсальной человеческой ценностью, она девальвируется. Зона приватности разрушается под воздействием социального «допинга», информационно-коммуникативных технологий, которые порабощают человека виртуальной симуляцией, расширяющимся пространством аномии и побуждают его идти по пути «абонента», «пользователя», «анонимной идентичности», интернет-социализации, становясь при этом все более безличным и публичным. Поэтому рефлексия в осмыслении диалектики процессов индивидуализации и социализации, адекватное понимание роли приватности в социальной жизнедеятельности, приоритетности личностного способа бытия становятся актуальной проблемой.
Список литературы Приватность в эпоху вовлеченности
- Бауман З. 2010. Актуальность холокоста. М.: Европа. 316 с
- Войскуновский А.Е, Дорохова О.А. 2010. Становление киберэтики: исторические основания и современные проблемы. -Вопросы философии. № 5. С. 69-83
- Гидденс Э. 2011. Последствия современности. М.: Праксис. 352 с
- Фуко М. 1999. Надзирать и наказывать. Рождение тюрьмы. М.: Ad Marginem. 416 с