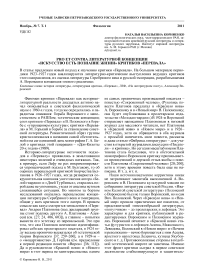Pro et contra литературной концепции «искусство есть познание жизни» критиков «Перевала»
Автор: Корниенко Наталья Васильевна
Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu
Рубрика: Филология
Статья в выпуске: 7 (120) т.1, 2011 года.
Бесплатный доступ
История литературы, литературная критика, "перевал", леф, "на литературном посту", александр воронский
Короткий адрес: https://sciup.org/14749996
IDR: 14749996
Текст статьи Pro et contra литературной концепции «искусство есть познание жизни» критиков «Перевала»
Феномен критики «Перевала» как историколитературной реальности двадцатых активно начал описываться в советской филологической науке с 1960-х годов, тогда же определились и парадигмы описания: борьба Воронского с напо-стовством и РАППом; эстетические концепции; союз критиков «Перевала» и В. Полонского в борьбе с «упрощением культуры»; критики «Перевала» и М. Горький в борьбе за становление советской литературы. Романтический образ группы кристаллизовался в названии самой обстоятельной и на сегодняшний день монографии Г. А. Белой о критиках этой генерации – «Дон-Кихоты 20-х годов» (1989).
Историко-литературные неточности подходов к «Перевалу» проявились в замалчивании некоторых явлений и очевидных натяжках. Так, к примеру, если Лефу не раз инкриминировался упрощенческий подход к М. Булгакову, то об оценках перевальской критикой творчества Булгакова в 1926–1927 годах, когда развернется сокрушительная кампания уничтожения автора «Белой гвардии» и «Дней Турбиных», старались порой даже не упоминать, уходя от анализа истоков сложившейся ситуации. Во многом за бортом исследований оказались перевальские концепции литературы Серебряного века и эмиграции, общие у всех критиков этого лагеря. В прямом смысле как казус смотрится зачисление в «Перевал» Андрея Платонова (под декларацией группы стоит подпись другого А. Платонова – Алексея) (см. [27; 24, 406, 603]), а главное – попытки вывести его эстетику из перевальской. Это при том, что сам Платонов неизменно идентифицировал себя как пролетарского писателя, в 1924 году весьма иронично высказался об эстетической теории Воронского [37; 259–260], а в 1929-м – о «моцартианстве» Д. Горбова (см. предисловие к первой редакции повести «Впрок» [36; 113]). Да и руководители «Красной нови» и «Нового мира» в этот период не заинтересовались одним из самых органичных произведений писателя – повестью «Сокровенный человек». (Рукопись повести Платонов предлагал в «Красную новь» А. Воронскому и в «Новый мир» В. Полонскому; она будет опубликована в пролетарском издательстве «Молодая гвардия».) В 1924-м Воронский отправляет написанное Платоновым в низовой журнал для массового читателя, нет Платонова в «Красной нови» и «Новом мире» и в 1926– 1927 годах, хотя он обращается в оба журнала с просьбой напечатать свои повести, рассказы и даже статью «Фабрика литературы» – для участия в открытой журналами дискуссии «Писатели – о критике». Но сегодня масштаб имени Платонова столь безусловен, что в обстоятельной монографии о Воронском критику приписывается провидческий и дерзкий отзыв якобы о повести Платонова «Сокровенный человек» [20; 200], хотя к этому времени повесть была еще не написана. И т. д. и т. п.
Наши источниковедческие коррективы никак не затрагивают масштаба выполненной А. Во-ронским и В. Полонским культурной миссии по собиранию литературы советской России. «Иваном Калитой советской литературы» (Полонский о Воронском) был не только Воронский, но и сам Вяч. Полонский. Через «Красную новь» и «Новый мир» прошли практически все писатели, от представителей «внеоктябрьской литературы», «попутчиков» – до пролетарских и лефовцев. Это характерно и для критики, публикуемой в редактируемых Воронским и Полонским журналах. Воронский печатает в «Красной нови» статьи футуристов и лефовцев Асеева, Маяковского, Левидова, Полонский в «Новом мире» и «Печати и революции» – вечно борющегося с ним Асеева, яростного напостовца Лелевича, кузнеца Якубовского и т. д. Противоположные стороны в подобной эстетической широте не замечены. Именно этот фронт критики сыграл в первое советское десятилетие стабилизирующую и защититель- ную роль литературы как искусства (подробно об этом см. [1]). «Воронский начал с очень резких и решительных статей, но постепенно тон его начал смягчаться. Из прокурора и следователя Воронский превратился в своего рода право-заступника современной литературы…» [43; 289], – писал в 1924 году Б. Эйхенбаум. За борьбу с критиками «На посту», «группы с полицейскими функциями», русская эмиграция многое простит Воронскому, отмечая «художественнолитературный либерализм» его позиции [30; 426] и весомый вклад критика в сохранение русской литературы советской России. Близкий к Ворон-скому-критику путь эволюции пройдет и В. Полонский, во многом принявший с 1927 года эстафету борьбы с радикальным направлением критики – новым напостовством и «новым» Лефом.
Организационно ни А. Воронский, редактор «Красной нови» и «Прожектора», ни В. Полонский, редактор «Печати и революции» и «Нового мира» (с 1926 года), в группу «Перевал» (она возникает при журнале «Красная новь» в конце 1923 года) не входили, но именно с ними связано становление самого понятия «критика “Перевала”», а с редактируемыми ими журналами – имена критиков, подписавших в 1926 году декларацию группы (Д. Горбов, А. Лежнев, Н. Замошкин, Н. Смирнов, В. Дынник, И. Кубиков, С. Пакентрейгер). Это критики разных тем, различных эстетических пристрастий в выборе своих любимых, менее любимых и нелюбимых писателей, отличных критических и стилистических подходов и решений, да и разного пути в критику и места в ней. Их объединила в группу ожесточенная литературная борьба 1923– 1924 годов, в которой они солидаризировались с Воронским и поддержали предложенный им в статье «На перевале» (лето 1923 года) лозунг: «вперед к классикам, к Гоголю, к Толстому, к Щедрину» [5; 337]. На «содержательном» направлении Воронский выдвинул задачу художественного познания жизни, создания героя современности, преодоления бытовизма и освобождения от «областничества» (последний тезис, без ссылки на Воронского, будет востребован в дискуссии о языке русской литературы 1934 года). В качестве формальной стратегии обосновывался «реализм» и «неореализм, своеобразное сочетание романтики, символизма с реализмом» [5; 338]. Близкую формулу несколько позже выдвинет В. Полонский – «романтический реализм» [38; 11].
Одни из базовых у Воронского-критика понятия «органичность» и «живая жизнь» («У них – быт, народ, данное, то, что перед глазами, живая жизнь» [2] – из рецензии 1922 года на альманах «Серапионовы братья») вошли в своеобразный метатекст литературно-критического языка группы «Перевала». Квинтэссенцию перевальского языка являют организационные документы груп- пы. В группу объединились в 1924 году писатели с дореволюционным стажем (М. Пришвин), пролетарские (В. Казин), комсомольские (М. Голодный, М. Светлов), крестьянские (И. Доронин, В. Наседкин) – «органически связанные с рабочекрестьянской средой» [33; 3] (из текста «От редакции», открывающего первый сборник «Перевал», 1924; курсив здесь и далее наш. - Н. К.); они выступают за «органическое развитие художника, тесно связанного со своим классом», считают «единственным путем художника органически здорового и восходящего класса – путь углубленного реализма» [27; 408, 409] (докладная записка группы «Перевал» в ЦК РКП, 1925); опираются на «свою органическую принадлежность к революции, в которой большинство из них получило свое общественное воспитание», ставят проблему «необходимости органического сочетания социального заказа со своей творческой индивидуальностью», связывают свою работу с «лучшими достижениями художественной мысли человечества», вносят в повестку литературной жизни вопросы творчества как органического процесса, «революционной совести всякого художника», которая «не позволяет скрывать своего внутреннего мира» [18], [19] (декларация группы, 1926) и т. п. В декларации 1926 года были подведены и некоторые итоги участия «Красной нови» и «Печати и революции» в литературно-критической борьбе первой половины десятилетия с «безответственной критикой» в лице напостовцев и лефовцев.
На страницах сборников «Перевал» (1924– 1928) критики было немного, но в целом она отстаивала заявленные в декларациях положения. Воронский печатает (в 4-м сборнике) журналистский фельетон «Пролазы и подхалимы» о тотальном лицемерии в среде якобы коммунистических писателей, где на теме Октября жируют «прохвосты» и «подхалимы» типа напостовца С. Родова, «испытанного борца за коммунизм». На их фоне «сердечный» писатель с его творческими муками и сомнениями, стремлением написать что-то «сердечное» и «совершенное» выглядит бедным Макаром, на которого набрасываются литературные шулеры. Воронский не называет имен, кроме почти эмблематичного Родова, с которым как явлением «родовщины» в это время борются сами пролетарские писатели. Это сделает в том же номере прозаик Н. Зарудин в статье «Музей восковых фигур», посвященной роману «Комиссары» Ю. Либединского. Через анализ стилистики и героев романа одного из столпов пролетарской литературы и критики Зарудин описывает тип вапповского прозаика («ум ленивый, ограниченный, идущий не дальше вызубренной формулы, возводящей ее в догму») и его художественное мышление: «Сложный, иногда катастрофический процесс интуитивно-образного познания окружающего мира заменялся узкой политической рецептурой. <…> У художника нет чувства, что он – вот, вот нашел свое, последнее, самое главное, без познания чего ему не стоило и рождаться… А потому – нет и стиля, нет личности, нет совершенных сочетаний слов. И, конечно, нет художественной убедительности». Портрет прозаика Либединского выполнен Зарудиным только серыми красками: «вялость и убогость языка»; неряшество, «выпирающее из каждой строчки»; он «не чувствует ни крепости и радости воздуха, ни холодка алеющей осины, ни детского облика русского пейзажа»; ведущие «поучительные разговоры» герои-комиссары представляют «паноптикум печальный» с «восковыми фигурами» коммунистов, подернутых «дешевой надсоновщиной» [34; 149–155].
Выдвинутая критиками-перевальцами программа учебы у классиков исходила из общей для них и партийной критики (книга «Литература и революция» Л. Троцкого) оценки литературы начала века как явления крайнего упадка русской литературы, когда в ней взяли верх индивидуалистические школы и направления, поэтому революция рассматривалась ими как великое благо для литературы. «Мучительный перелом в литературной преемственности», утверждал Во-ронский в итоговой статье «Десятилетие Октября и советская литература» (1927), вернул в литературу с периферии большие темы общественного порядка и навсегда закрыл тему религиозных исканий литературы начала века. Современная литература – реалистична по форме и содержанию, она «не “богоносна”, она атеистическая, языческая литература» [5; 440–441]. Лежнев внесет существенные добавления в концепцию Ворон-ского, утверждая, что «разрыв постепенности» [26; 81] в развитии русской литературы прервал ложный путь, на который она вступила в начале века. Ложный, потому что отступила от заветов «героического периода русской литературы» ХIХ века, прервала линию выдающегося явления русской классической литературы – реализма. Ложный путь виделся и на формальном уровне: русская литература начала века вторична по отношению к западной, ее главные школы (особенно символизм) – сплошь калька с литературных направлений Запада: «Она стала “европеизироваться”, и кто знает, до какой степени европеизации сумела бы дойти, если бы революция 1917 г. не прервала этот “естественный” процесс»; «Она становилась похожей на среднюю, “нормальную”, стабилизованную европейскую литературу времен упадка: все, как в лучших домах» [26; 84]. Используя любимое понятие перевальцев, резюмируем смысл этой концепции. Получилось, что благодаря именно революции русская литература возвращается на свой – органичный – путь развития.
Как всецело вписанная в парадигму литературы начала века, ушедшей от больших тем, рас- сматривалась перевальцами критика Е. Замятина, Серапионов, формалистов. Замятину в вину Воронским ставится «словопоклонничество, увлечение мастерством, формой» у Серапионов [5; 137], формалистам – то, что они «никогда не говорят о содержании» [5; 356], эмоционалистам (имя М. Кузмина, правда, не называется) – ложная идея, что искусство организует эмоции [5; 426]. Если на «левом» фланге для критиков-перевальцев находились напостовцы-рапповцы и лефовцы, то на «правом» (от «правых опасностей» партийной резолюции 1922 года) располагались русская эмиграция, сменовеховский журнал «Россия» и журнал петроградской литературы и критики «Русский современник». По последним двум перевальцы выпустили не одну критическую стрелу. Критика «России» (здесь печатались И. Лежнев, Е. Замятин, А. Белый, О. Мандельштам, М. Кузмин, Я. Браун и др.) – это «собственно не критика, а критический фокстрот», а критики «Русского современника», возглавляемые «почтенным епископом формальной школы Б. Эйхенбаумом», выступают против марксистской критики, не зная ее азов [23; 124]. Публикуемая на страницах журналов художественная продукция «неоригинальна» и «несовременна», «безнадежно мертва» (речь идет о «Крысолове» Грина, «Записях Ковякина» Леонова, лирике Ахматовой, Мандельштама, Клюева и др.) [23]. Досталось от Лежнева и В. Шкловскому за его книгу «Третья фабрика» (1926): «…позирующий Гамлет из Опояза, готовый через минуту превратиться в самоотверженного Дон-Кихота, жертвующего жизнью за лучшее качество литературного волокна» [25; 83].
Если Лежнев и Полонский обеспечивали борьбу с внутрироссийским «правым флангом», то на русскую эмиграцию перевальцами были выдвинуты не меньшие силы: А. Воронский, Д. Горбов, Н. Смирнов. После чисто журналистских приемов войны с литературой эмиграции в статьях 1921–1922 годов, за которые Воронский удостоился ответной характеристики возглавляемого им журнала – «литературная ЧК» (М. Слоним), критик в 1925-м печатает статью «Советская литература и белая эмиграция», где с нескрываемым раздражением пишет о критике эмиграции, которая «заигрывает» с советскими писателями, перепечатывает их и доказывает, что все значительные явления (Б. Пильняк, М. Зощенко, И. Бабель, Вс. Иванов, Л. Леонов) никак не связаны и идеологией коммунизма, а скорее своим творчеством ей противостоят. У писателей советской России – кризис, парирует Воронский, а в эмиграции даже у реалистов – полный тупик и импотенция. По количеству брани в адрес литературы и критики русской эмиграции перевальцы не уступали напостовцам: «литература уже умершей, окаменевающей старой России»; «черносотенно-погромные статьи» З. Гиппиус и М. Арцыбашева; «отдадим должное врагу» (о рассказе
И. Бунина «Косцы»); «погромная, мстительнейшей злобой пылающая вещь» (о «Солнце мертвых» И. Шмелева); «похоронная книга» К. Бальмонта. В этой же похоронной стилистике выдержана и общая оценка настоящего и будущего литературы русской эмиграции: «Солнце мертвых погружается в вечные воды» [40].
Лозунг «вперед к классикам» вводился перевальцами в тщательно прописанную идеологическую парадигму новой культуры. Поначалу Во-ронский-критик особо не углублялся ни в проблематику масштаба русской литературы, которым он предлагал своим оппонентам измерять современную литературу, ни в вопросы наследования традиции и ставил их в развернувшейся в 1923 году журнальной полемике с напостов-цами чисто журналистскими приемами. Так, он никогда не говорит от своего имени, но только от имени партии, тем самым придавая вопросу об искусстве и наследии государственный статус, а партию позиционирует едва ли не главным собственником и оценщиком классического наследия.
Теоретический инструментарий лозунга учебы у классиков, изложенный в статьях Ворон-ского 1923 года, не отличается особой сложностью и эстетической проработанностью:
«Поэтому-то и Белинский, и Плеханов, и другие наши учители не уставали твердить, что поэзия есть истина в форме созерцания, что поэт мыслит образами...» [7; 293].
«Прежде всего искусство есть познание жизни. <...> “Поэзия, – писал еще Белинский, – есть истина в форме созерцания. <...> Поэт не украшает действительности, не изображает людей, какими они должны быть, но каковы суть” (из статьи “Горе от ума”). Настоящий поэт, настоящий художник – тот, кто видит идеи...»
«Когда поэт или писатель… не удовлетворен окружающей действительностью, он стремится изобразить не ее, а то, каковой она должна быть; он пытается приоткрыть завесу будущего и показать человека в его идеале. <...> Но это отнюдь не противоречит определению художества как познания жизни…»
«И журнал “Красная новь”, и артель писателей “Круг” поставили своей задачей художественное познание жизни. И в этом их особенность и отличие и от “Лефа”, и от журнала “На посту”, и от многих других изданий» [6; 302, 304, 332].
На очевидную эклектику литературно-критических построений Воронского ему не раз указывали не только его идеологические оппоненты. Воронский действительно пытается наполнить новым содержанием классические эстетические формы, за которыми стояла философия жизни и искусства. Так, эстетика философского реализма В. Белинского, к которому чаще всего апеллирует Воронский, рождена эпохой его гегельянства (тема «Белинский и Гегель» широко освещалась в многочисленных исследованиях этого десятилетия; в 1923 году вышла книга Г. Плеханова «Белинский. Сборник статей», включавшая статью «Белинский и разумная действительность», посвященную гегельянству критика) и погружением в созданную Гегелем теорию диалектики познания, которая рассматривала искусство как одну из форм познания абсолюта, мирового Духа. Согласно Гегелю, «искусство призвано раскрыть истину в чувственной форме» и оно разрешает высшую задачу только тогда, когда становится одним из способов «осознания и выражения божественного, глубочайших человеческих интересов, всеобъемлющих истин духа» [8; 61, 13–14]. Воронский-критик как огня боится «идеализма», в борьбе с которым он принимал столь активное участие. «Мир развивается не по Шпенглеру, а по Марксу» [5; 295] – звучит как заклинание. Похоже звучит и лозунг «учебы» у русских классиков – из мира Толстого и Пушкина современный писатель не должен выносить «ничего мистического» [5; 360].
Подобным же образом оформляется перевальцами и комплекс толстовских эстетических идей, важных для современной литературы, которая у русских классиков должна учиться: во-первых, умению «синтетически оформлять материал», умению типизировать, «преломлять мир сквозь призму своей индивидуальности», но без всякого индивидуализма [5; 359]; во-вторых, умению «снимать покровы» с действительности, то есть «обнажать жизнь», что невозможно без интуиции, но все это делать в интересах своего класса; в-третьих, пониманию творческого акта, в котором форма неотделима от содержания и диктуется им; в-четвертых, интуитивному пониманию жизни и образа при четкой установке, что в «интуиции нет ничего божественного, мет-эмпири-ческого» [5; 352]; в-пятых, руководствоваться при описании жизни идеалом, но не толстовской «правдой Царствия Божия», потому что «у нас есть свой идеал царствия…» [5; 346].
Краеугольный для русского романа ХIХ века вопрос об эстетическом и этическом идеале с его христологическим ядром у Достоевского и Толстого формулировался Полонским и Ворон-ским без особой рефлексии: «“Герой нашего времени” идет от Ленина, а не от Толстого, Белинского и Пушкина» [4; 12].
В соответствии с данным сводом литературных заданий для новой литературы Воронским формулируются задачи критики, которая должна: 1) выяснять, в интересах какого класса снимаются покровы с жизни; 2) анализировать, «в какой мере объективно, точно воспроизведена действительность» и «содержательны ли… художественные открытия»; 3) объяснять, «чем объясняется правильность или неправильность, допущенные художником в изображении “реальности жизни”…» [5; 363] и т. п. Система поправок Во-ронского к «новому реализму», позже почти це- ликом вошедшая в теорию соцреализма, весьма симптоматична. Допустив в споре с «нашими рационалистами» (напостовской и лефовской критикой) субъективность и интуитивность художника, перевальцы мотивировали высокую – воспитательную – миссию критика, который должен заниматься «переводом произведения с языка интуиции на язык логики» [5; 353], ибо писатель, как тот платоновский «дубъект» («Чевенгур»), художественной аналитикой не обладает, а «слепые интуиции» могут быть ложными и завести его неизвестно куда.
О том, что «вперед к классикам» – это лишь лозунг, можно прочитать в статье А. Луначарского «Наши задачи в области художественной жизни», помещенной в первом, программном номере «Красной нови» (1921). Луначарский, озабоченный в это время состоянием массовых библиотек и подготовкой его ведомством инструкций по изъятию оттуда контрреволюционной литературы, пишет о читателях, но ведь и Во-ронский предлагает молодым писателям также стать читателями Толстого, Достоевского и Гоголя. У Луначарского же получилось, что и содержание, и форма у русских классиков не совсем безобидная вещь: «…чтение классиков русских и мировых малоподготовленными людьми иногда бывает неплодотворным, подчас даже вредным. Чужой быт, непривычные мысли встречаются здесь на каждом шагу; бывает так, что произведения вроде “Войны и мира” или “Анны Карениной” вызывают в сердцах пролетария только глухое раздражение против бар, не позволяющее ему дочитать книгу. Но бывает и так, что те или другие для нас совершенно неприемлемые идеи, выраженные в чарующей форме и с огромной силой, словом, художественно выявленная идеология чужого класса, – вносят естественный беспорядок в еще не устоявшееся миросозерцание молодого или неопытного читателя» (цит. по [29; 249]).
«Неприемлемые идеи» и элементы «чарующей формы» русской классики и их присутствие в современной литературе доставят немало хлопот перевальцам, когда они от теории и формулировок литературной стратегии переходят к написанию портретов современных писателей – сквозь призму субъективности, интуитивности, «органичности» образа и творческой эволюции. Наиболее просто оказалось с «внеоктябрьским» (по классификации Троцкого) Е. Замятиным, чей творческий путь рассматривался под знаменем «утраты» писателем контакта с действительностью, отсюда и получилось, по Воронскому, что Замятин – «рационалист», почти как писатели-напостовцы, только он пишет «художественные памфлеты», а те – агитки. Критика-организатора Воронского естественно не устраивает роман «Мы», потому что это клевета на коммунизм, а формальные достоинства романа («С художе- ственной стороны роман прекрасен») еще в большей степени увеличивают его вредоносность, ибо дарование «пошло на служение злому делу» [5; 136]. Однако и в анализе творческого пути писателей-попутчиков, не утративших контакта с действительностью, содержание и форма не пребывали, как у классиков, в гармонии, литература типизировала явления действительности, но как-то идеологически неправильно. Таким оказался путь Вс. Иванова к книге «Тайное тайных» (1926), лучшей книге писателя, но, по Воронско-му, «Тайное тайных» «не только отрадная, но и печальная книга», ибо Иванов подошел «к “вечным”, к “проклятым” вопросам… и не знает, как сочетать личное с общественным» [5; 118–119]. Подобный же упрек делается Воронским Есенину, А. Толстому, Леонову, Бабелю, Клычкову, также зараженным, по мнению критика, этими «вечными вопросами» русской классической литературы. Полонский напишет об эволюции Вс. Иванова еще жестче: «Тайное тайных» Вс. Иванова показывает не только «реакционных людей», но «суть в том, что он показывает их “реакционно”! Не только герои его сделались носителями упадочнической философии, она овладела сознанием самого автора…» [38; 119]. Вспоминал ли Полонский о собственной оценке книги «Тайное тайных», когда записывал в дневнике 1931 года о «перестройке» Вс. Иванова, к которой он его последовательно призывал в 1927–1928 годах: «Эти вещи (речь идет о производственно-колхозных очерках “Из записок бригадира Синицына”. – Н. К.) он выполнял по “социальному заказу”. На “индустриальные темы” – Оставил свой стиль “Тайное тайных”, то есть свою настоящую манеру, и пытался потрафить напостов-ской критике» [39; 132]?!
Худо оказалось с мировоззрением у «необычайно талантливого» Клычкова, чья поэтическая книга «Домашние песни», написанная в лирической фетовской манере, квалифицировалась Во-ронским как «узкий лирический кругозор» поэта [5; 227], а движение прозаика к третьему роману «Князь тьмы», явно проигрывающему в художественности и «Чертухинскому балакирю», и «Сахарному немцу», поставлено в заслугу – за чисто мировоззренческие подвижки: «Он хоронит в нем патриархальную деревню. Жалеть об этом не приходится» [5; 228].
Все перевальцы писали и о творческом пути А. Толстого, однако в его «радостном реализме» (Воронский) [5; 215] также обнаружились черты неверного понимания писателем русской классики и влияние особенно нелюбимого критиками-коммунистами Гончарова, что сказалось в главном его «завете заветов», испортившем концы всех его произведений – от дореволюционного «Хромого барина», эмигрантских «Хождений по мукам» и «Детства Никиты» до современных «Голубых городов»: «Простые вещи, любовь, жен- щина, природа, дети – вот в чем ищет Толстой выхода из тупиков. <…> Но выход ли это? <…> Завет заветов Толстого – простая отписка. Эта отписка постоянно ослабляет художественную позицию писателя. Замечательная вещь: романы и повести Толстого занимательны, содержательны, правдивы, а окончания их почти всегда разочаровывают. <…> Отчего это? В окончаниях своих романов, повестей Толстой обычно выражает излюбленный им завет заветов…» [5; 213– 214]. В этом высказывании о природе отмеченной Е. Замятиным «концебоязни» [22; 105] в прозе о современности Воронский-критик как идеолог «органичности» солидаризировался с прозвучавшим мнением критиков-кузнецов. Так, скрывшийся за инициалами Я. Ф. рецензент «Хождений по мукам» и «Похождений Невзорова» писал в 1925 году, что художнику, который вместе со своими героями смотрит на события революции из «окна изящной квартиры» и исповедует как высшую ценность («нетленное») любовь, естественнее, органичнее, а потому логичнее закончить «Хождение по мукам» эмиграцией Даши и Телегина [46; 149–150]. Однако для «критика-организатора» Воронского такой последовательный вывод из перевальской концепции «органичности» был неприемлем. У статьи Воронско-го о Толстом – не только свое задание, но и свой собственно критический контекст.
Идеологически статья Воронского об Алексее Толстом 1926 года имеет своим прицелом даже не напостовскую яростную критику самой фигуры графа Толстого, а главным образом «беспечного» (А. Лежнев) в вопросах методологии и идеологии К. Чуковского, одного из постоянных объектов неизменно уничижительной критики Троцкого («Литература и революции») и одновременно автора статьи «Алексей Толстой», опубликованной в «Русском современнике» и, кажется, являющейся последним образцом эстетической критики на страницах советской печати. Чуковский никаких советов Алексею Толстому не давал, писал именно о генезисе художественного мировоззрения и об источниках не принимаемого Воронским «завета заветов писателя». По Чуковскому, Толстой как раз и находится на том не «ложном» пути (если пользоваться терминологией Лежнева) русского классического реализма и «завершает собою вереницу наших усадебных классиков». Эстетикой последних определяется, утверждает Чуковский, и форма, и содержание, и пафос, и уникальность А. Толстого-прозаика: «плавное» повествование, лишенное свойственной современной литературе «неврастенической композиции, с перебоями, сдвигами плоскостей, ежеминутными сюрпризами и словесными выстрелами» [44; 266], центральность темы любви и счастья, а также финалы, для которых критиком найдено тончайшее определение – «шествие к радости» [44; 259].
Противоречия и непоследовательность применения выработанной методологии ощутима и в других портретах писателей, особенно рельефно они проявились в трех статьях Ворон-ского о Есенине, которого он печатал, защищал и, конечно, воспитывал. Показательна статья 1924 года, представляющая первый в советском литературоведении очерк творческого пути Есенина. Статья писалась в качестве предисловия к первому тому прижизненного собрания сочинений Есенина и была адресована не столько поэту (хотя и ему тоже), но главным образом читателю. Счет ошибок, выставленных Воронским в статье «искреннейшему» поэту Есенину, мы затем обнаружим у Н. Бухарина в «Злых заметках». Эти ошибки без ссылок на Воронского будут десятилетиями тиражироваться в монографиях о Есенине в пору его первого возвращения к читателю: «пагубность» религиозных чувств (ранний период); «аполитичность»; крестьянская двойственность; неверное отношение к революции; необходимость принять другую «Ино-нию» – ленинскую; «опасность стихов Есенина», особенно «Москвы кабацкой», против которых читатель должен «поднять знамя за бодрость»; «реакционный романтик»; неспособность Есенина к радикальной переработке своего мировоззрения [4; 173–211] и т. п. Критик-организатор Воронский победил здесь литературного критика. Во многом именно в полемике с этой педагогической статьей Воронского написана статья Б. Эйхенбаума о Есенине (статья никогда не печаталась в СССР). Б. Эйхенбаум, как и все формалисты, не видел Есенина на выстраиваемой ими столбовой дороге русской поэзии, однако, по мнению критика-формалиста, путь Есенина представляет единственный в своей уникальности пример подчинения поэзии той жизни, обнажать которую предлагали критики-перевальцы: «Пресловутое “хулиганство” Есенина, которое, в конце концов, выражалось трогательными лирическими стихами, было выражением напряженного морального чувства. Именно оно привело его от проблемы поэзии и поэтического образа к проблеме личности, судьбы поэта. <…> Граница между жизнью и поэзией стерлась – проблема самой жизни вошла в стихи и стала царить над ними» (цит. по [41; 125]). Немного смягчится Воронский в статье «Об отошедшем», хотя вновь в остатке у критика интуитивный Есенин с его интуитивными образами, поворотом от имажинизма к классике (Пушкину), умением обнажать жизнь, непреложным для перевальцев гуманизмом, «со всей своей непосредственностью и напряжением» [5; 167] оказался вне самого понятия культуры. В последней статье о Есенине, написанной как воспоминание (1926), Воронский фактически деконструирует все главные методологические положения первой статьи, однако в книгу «Литературные типы»
(1927) он включает первую статью. Но это понятно, учитывая развернувшуюся госкампанию борьбы с «есенинщиной».
В писаниях молодого поколения критиков-перевальцев критические дефиниции «органичность» и «искренность» зачастую просто превращались в пустые формулы и использовались в оргцелях. Так, к примеру, без оргконтекста не понять, почему у Пакентрейгера прозаик Пант. Романов, «имитатор классических фигур и мотивов» [31; 86], наделяется «талантом равнодушия», то есть напрочь лишен, по мнению критика, и органичности, и искренности, а поэт Михаил Светлов пером критика превращается в фигуру масштаба Пушкина: «…обладает тонким даром интимизировать самые большие, самые глубокие социальные чувства», «молодой создатель духовных ценностей» [32; 198, 200] и т. п. Ответ на поставленный вопрос на самом деле прост. «Органичность» и «искренность» используются критиком в целях литературной борьбы, ибо Светлов – бывший молодогвардеец, перешел в «Перевал», а никогда не входивший ни в «Перевал», ни тем более в «Молодую гвардию» П. Романов в 1926 году печатает в журнале «Молодая гвардия» рассказы о любви комсомольцев («Без черемухи»), построенные как откровенная деконструкция тематики и поэтики комсомольской поэзии, так и оставшейся близкой перешедшим в «Перевал» поэтам-комсомольцам и их критику. Далее, рассказы П. Романова повысили читаемость журнала среди молодежи и т. п. Воронский, хорошо знавший приемы оргкрити-ки и блистательно ими владевший, попытается несколько скорректировать восторженно-возвышенные оценки Пакентрейгера. Он писал о комсомольской поэзии в пору ее взлета, то есть еще до перехода некоторых комсомольцев в «Перевал» («О группе писателей “Октябрь” и “Молодая Гвардия”», 1924). В доброжелательной, но не хвалебной статье-рецензии 1927 года «На хорошей дороге», посвященной новым книгам М. Светлова и И. Уткина, Воронский отметит все те же комсомольские штампы: «плен романтики Гражданской войны», утрату чувства меры, внешний психологизм («иногда не хватает естественности, непринужденности и простоты в стихе…» [5; 259]).
Погружаясь в сферу проблематики художественного познания, критики-перевальцы вышли к вопросам художественной интуиции, сферы бессознательного в творчестве и самым современным теориям психологизма. Вопросы психоанализа и советской культуры широко обсуждались на страницах «Красной нови» и «Печати и революции». Воронский посвятит фрейдовской теории снов-видений большую статью «Фрейдизм и искусство» (1925). Безусловной заслугой учения Фрейда, считал Воронский, является изучение душевной жизни отдельного человека, в ув- лечении же психоанализом в современной советской литературе критик видел естественную реакцию на рациональные и утилитарные концепции искусства, а зараженность «идеалистическим» фрейдизмом у пролетарских критиков из Коммунистической академии объяснял слабым знанием марксизма, а также русской и европейской литературы ХIХ века: «…если, по мнению фрейдистов, к Толстому и Достоевскому необходимо применять психоанализ, то, с другой стороны, Толстой и Достоевский сами пользовались психоанализом. Своеобразный психоанализ в искусстве применялся давно до Фрейда. Художники разоблачали и себя, и своих героев. Но их свидетельства далеко не совпадают с учением Фрейда. Несмотря на колоссальную силу интуиции, ни Толстой, ни Достоевский не нашли, что в человеческой психике господствует, по существу, психопатологические сексуальные чувства (эдипов комплекс), или что бессознательные намерения, антиобщественные по своему содержанию покрывают все поле нашего сознания и руководят нашими поступками» [3], [5; 385] (см. также статью [16]). Тот факт, что это был век девятнадцатый, в котором противоречия сознания («Я») и коллективного бессознательного («Оно») разрешались внутри парадигмы религиозного сознания, Воронский предпочитает, как и при обосновании лозунга «учебы» у русских классиков, вовсе не замечать: сознание художника не может быть рабом бессознательного, ибо сознание не только в науке, но и в «интимном» искусстве связано не только с бессознательным, но и с действительностью, средой и ими определяется.
И даже оскопив русскую классику, критики-перевальцы, отвечая на вопрос, за кем идти художнику в познании человека и современности – за психоанализом или психологизмом Толстого и Достоевского, отвечали: за классикой. Там – любовь к человеку, сострадание, жизнь и художественный образ. Так, Д. Горбов бытовой натурализм и внимание к «задворкам» и «отбросам быта», «эстетику грязного и отвратительного» в современной прозе считал следствием падения классического «искусства внутреннего подхода к теме», предполагающего наличие двух традиционных для классической культуры парадигм: «культа художественного слова» и «любовной пристальности» к деталям и мелочам психологии и быта [13; 237–238].
Внимание критиков-перевальцев к сфере бессознательного в жизни и искусстве диктовалось не только литературно-эстетической борьбой, но и самой текущей литературой как пролетарского, так и попутнического крыла. Надо было объяснять тему «больного человека» в современной литературе (название повести популярного прозаика Малашкина), мировоззренческие болезни писателей (нашумевшая статья М. Шаги-нян «Писатель болен» [45]), волну самоубийств в литературной среде (молодой поэт-комсомолец Н. Кузнецов, С. Есенин, политкаторжанин прозаик А. Соболь и др.).
Статья Н. Замошкина «К вопросу о творчестве “гениев” и “безумцев”», написанная в развитие полемики Воронского с современными критиками-фрейдистами, посвящена популярной в писательской среде книге психиатра П. И. Карпова «Творчество душевнобольных и его влияние на развитие науки, искусства и техники» (1926). Контраргументы к психиатрическим аналогиям между творчеством «гениев» (художников) и душевнобольных выстраиваются критиком на материале классической и современной литературы. Природа художественной деятельности осталась прежней: душевные переживания являются основой художественной интуиции, но если у больных отсутствует контроль сознания, то сфера создания художественного образа не может быть объяснима лишь доминированием подсознательного: «Делание же художественного произведения протекает всегда в сфере бодрствующего сознания. Чем же иначе объяснить рациональную структуру произведений искусства?» [21; 95]. В качестве примеров «рациональных структур» художественного текста Замошкин берет стихотворение Э. По «Ворон» и поэму С. Есенина «Черный человек», произведения, которые в критике принято, замечает он, считать явлениями анормальными, болезненными и потому фантастическими. Автобиографизм, сердечность и искренность выражения темы «больного человека» у Есенина нужно читать по коду важного для художника подсознательного опыта, но поэму не понять, если не обнаружить, что в ее структуре «непроизвольные крики, почти клинического происхождения» чередуются с мастерски отлитыми образами, и уже в экспозиции за заявкой темы болезни («Друг мой, друг мой, / Я очень и очень болен…») следует «страшный, напоминающий скульптурностью своего рисунка средневековую химеру, образ» («Голова моя машет ушами, / Как крыльями птица»), но этот образ создан «волею художника», контролирующего сферу бессознательной интуиции сознанием.
В остатке подобного подхода получалось, что «интуитивисты» приходили почти к тому же выводу, что и их оппоненты «рационалисты», с небольшой поправкой на некую европейскую культуру, которая не позволит свалиться в яму бессознательного: «Для успеха в творчестве необходимо самообуздание и длительная тренировка “нутра”, что и достигается контролирующей и организаторской деятельностью сознания. Художник всегда является хозяином своего “подсознания”. Поэтому-то “забвение себя” и означает в некотором роде “начало” писательской деятельности» [21; 97].
Перевальские pro et contra темы бессознательного в искусстве приходятся на 1925–1927 годы и проецируются на их полемику с рапповскими и лефовскими концепциями, поэтому как только на левом фронте обозначался тот или иной радикальный выпад в сторону перевальской концепции искусства как образного познания жизни, следовала акцентация той или иной стороны дилеммы сознательного-бессознательного, рацио-нального-интуитивного. Так, в 1927 году Ворон-ский уже советует современным писателям учиться реализму не только у Толстого, но и у интуитивиста Пруста, в творчестве которого выходы за пределы нормального зрения контролируются культурностью писателя (статья «Марсель Пруст (К вопросу о психологии творчества)»), и даже признает в качестве одного из учителей Андрея Белого, с мистицизмом которого и влиянием на попутнический молодняк он так яростно сражался в начале десятилетия. В статье «Андрей Белый (Мраморный гром)» Воронский объясняет, почему вдруг стал «недостаточен и скучен реализм доброго старого времени», и заключает: «…реализм Толстого, Тургенева требует существеннейших поправок, изменений и дополнений». Все дело оказывается в самой действительности, где идет переустройство старого быта и «где старое ведет с новым гигантскую и неустанную борьбу». Для современного бытописательства традиции классики не годились, но допускался Андрей Белый, правда, без его субъективного символизма: «Новый реализм должен восстановить нам мир во всей его независимости от нас, в его прочной данности, – но вместе с тем он должен уметь применить с успехом и заостренную манеру письма импрессионистов, модернистов и символистов. Только таким нам мыслится новый реализм. Значение Андрея Белого здесь очевидно» [5; 253].
Наиболее последовательным в разработке вопросов эстетики интуитивизма и эстетического идеала современной литературы был Д. Горбов, который к концу 1927 года придет к весьма схожей с серапионовской теории о моцартианских началах художественного творчества. Горбов был профессиональным филологом (в 1917-м окончил историко-филологический факультет Московского университета), в 1920 году вступил в партию. Он писал стихи, некоторые из них даже публиковал в советской печати [10] и в эмигрантской «Накануне». Это тихая лирика любви и созерцания мира, открывающая эстетические пристрастия будущего критика, воспитанного на Фете и не чуждого поэтическим исканиям Серебряного века:
Сады земные тесны нам.
Любовь скорбит о неизвестном. Пойдем бродить по облакам, Ликующим и бестелесным [9].
Как и положено критику-марксисту нэпа, Горбов отметился на фронте борьбы с «правыми опасностями». В рецензии на литературно-московский сборник «Феникс» он выразился весьма жестко об опубликованных на его страницах статьях русских философов Л. Карсавина, П. Флоренского и Б. Вышеславцева – «российских корректорах шпенглеризма», которые заводят культуру в тупики идеализма, ложно понятой идеи свободы, «средневековой схоластики и богословия» [11]. Путь литературы и критики Серебряного века Горбов считал тупиком «интеллигентской культуры» и исчерпанным: «Индивидуализм, упадничество, кокетничанье самодовлеющей “красотой” переживания или литературной формы, – все то, что хотело бы оскалить зубы, но, за неимением их, ввиду старческого одряхления, ограничивалось высовыванием языка со страниц Ильи Эренбурга, “Русского современника”, “России”, – все это как будто отошло в прошлое» [12; 130], – писал Горбов в 1925 году в статье «Итоги литературного года», являющейся своеобразной квинтэссенцией его концепции советского литературного процесса. Как и все критики-марксисты этой генерации, Горбов был центристом, считал, что, в отличие от критики, литература и попутчиков, и пролетарских писателей развивается в едином направлении, у нее есть свои нелитературные главные темы, это темы жизни самой страны (революция и Гражданская война, взаимоотношение города и деревни, трудового подъема), и именно они формируют общее лицо советской литературы как литературы реалистической в своей основе, литературы «большого стиля» [12; 131]. К последней он относил произведения, «охватывающие все коренные наболевшие вопросы, причем автор берет их не внешне-описательным изображением, но, став как бы в сердцевину эпохи и выведя ее больные вопросы и противоречия из себя (или включив их в себя), дает им типическое воплощение в ряде законченных, объективированно-выпуклых, живущих своею собственной жизнью образов и отнюдь не играющих роль бытовых подробностей только образов…» [12; 130–131]. Победой пролетарской литературы на этом направлении он называет «Цемент» Гладкова, в котором тема хозяйственного возрождения страны переведена во внутренний план и раскрывает «внутреннюю трагедию общественного человека» [12; 131], и роман «Барсуки» попутчика Леонова. Главным недостатком же яростного оппонента Воронского прозаика Либединского считает даже не слабый изобразительный дар (об этом напишет Зарудин), а «жизнебоязнь», «известную боязнь автора перед живой жизнью». Он советует Либединско-му-художнику извлекать художественные обобщения не из книжных источников, а из жизни – «из нее одной» [12; 137–138]. Схожий совет он дает и Бабелю – писателю «острого художественного взгляда на детали внешнего мира и мира внутреннего», однако застывшего в «броне эксцентризма и эстетики», которые стесняют путь прозаика: «Путь реализма – от жизни к искус- ству. Но Бабель всегда идет от искусства к жизни. Первое у него является приматом над вторым» [12; 141]. Вписав и другие произведения в концепцию советского литературного процесса (анализируются «Экзотические рассказы» Вс. Иванова, «Сахарный немец» Клычкова, «Машины и волки» Б. Пильняка, рассказы Л. Сейфуллиной и К. Федина), Горбов останавливается перед «Белой гвардией» и «Роковыми яйцами» Булгакова, не находя им места в советской литературе: «инородное тело» [12; 147]. Горбов – перевалец, для него неприемлемы напостовские ярлыки: «Мы далеки от того, чтобы видеть в произведениях Булгакова осознанную и выраженную в прикро-венной форме контрреволюцию» [12; 147]. Горбов-ское решение булгаковского вопроса вполне вписывается в перевальскую (и партийную) концепцию воспитательных задач критики, опробованной Воронским при «осовечивании» Серапионов. Как только Булгаков перестанет смотреть на современность глазами Николки Турбина, уверен критик, он «более спокойно» начнет относиться к происходящему в советской России: «Это дает нам возможность надеяться, что дарование М. Булгакова рано или поздно определится, примкнет к жизни подлинной России, пережившей Октябрь, и ему уже не придется рядить неопределенность своей идеологии…» [12; 148]. Но где же главный порок молодого и еще «идеологически неоформленного» Булгакова, чтение которого доставило критику, по его признанию, «большое художественное наслаждение» [12; 148]?
В ответе на этот вопрос и появляется у Горбова ключевое понятие, отрицание которого и привело его в 1928-м к мифической Галатее: «Не иначе как тут притаилась тенденция» [12; 147].
Своеобразной лабораторией, где Горбовым разрабатывались базовые идеи его будущей книги «Поиски Галатеи», стали статьи о русской литературе эмиграции: «Мертвая красота и живучее безобразие» (1926) и «10 лет литературы за рубежом» (1927). В этих, как не раз отмечалось Г. Белой, «глубоко несправедливых в отношении эмиграции» статьях, сквозной оставалась базовая перевальская оппозиция «тенденциозности» / «органичности» искусства. Правда, если в цитированной выше статье 1925 года вопрос тенденциозности поставлен в связи с Булгаковым, в статье «В поисках темы» (1926) «тенденциозность» как «гипноз обобщения при отрыве от живой жизни» всецело ассоциируется с пролетарским направлением [13; 240], то в статьях об эмиграции – с писателями радикально иной идеологии. Но главным остается все тот же вопрос и последовательная установка на «органичность» как главный признак «подлинного искусства, свободного от внехудожественных пристрастий, мелкой злобы, личной заинтересованности и мудро владеющего своими средствами» [14; 235], «органического мироощущения писателя, которое в одном случае включает его в эпоху, в другом – изолирует его» [15; 10]. Иван Бунин для Горбова остается «художником первой величины» [14; 239], несмотря на все свои антисоветские памфлеты, ибо он художник и в творчестве «далек от злобы дня» [14; 235]: «К чести Бунина надо сказать, что он предпочитает все же выносить свои злобные излияния на революцию за скобки художественного творчества, компенсируя себя за это воздержание совершенно изуверскими публицистическими выступлениями. Фельетон и статья под его пером превращаются в подлинные жертвы его общественного темперамента. Зато “магический кристалл” художественного творчества, за редкими указанными исключениями, остается незамутненным» [15; 12]. В творчестве же Мережковского «задняя мысль реакционного публициста, бесцеремонно оттирающего в Мережковском художника, вытравляет из его романа (речь идет о романе “Мессия”. – Н. К.) последние признаки искусства и сообщает мертвящий налет его художественной работе, и без того имеющей пагубную склонность к резонерскому холодку» [14; 240]. При разработке эстетической оппозиции «органичности» – тенденциозности литературы Горбов доходит до крамолы, немыслимой в его статьях о советской литературе: неприятие писателями эмиграции революции – «признак несущественный» [15; 11]; материал, взятый художником, «по существу безразличен» и «не может характеризовать художника ни положительно, ни отрицательно» [15; 24]; «Нам совершенно нет дела до того, что М. Цветаева не желает изображать в своих поэмах борьбу на баррикадах» [15; 24]; «Мы можем пренебречь политическими взглядами М. Цветаевой» [15; 25]; «Можно без баррикад и кожаных курток. Заводы тоже отнюдь не обязательны. Не обязателен даже быт» [15; 25] и т. п. И вывод: «Всюду, где побеждает философская или политическая тенденция, – эти в большинстве своем маститые писатели (речь идет о реалистах. – Н. К.) бессильны скрыть грубую тенденциозность в цветах веле-лепного и льстивого красноречия» [15; 11].
Погрузив «магический кристалл» образного познания жизни практически в экзистенциальный тупик, Д. Горбов оказался своей методоло- гией близок не столько «органической критике» Ап. Григорьева, как о том принято писать, сколько социологической критике В. Переверзева, также в литературно-критических спорах первой половины 1920-х годов более близкой позиции «Красной нови» и «Печати и революции», чем на «На посту» и «Лефа» [35].
Постулируя в качестве едва ли не главного в полемике с эмиграцией и «внутренними эмигрантами» тезис о том, что новая литература советской России – это литература «русского демоса» (А. Воронский), критики «Перевала» к излету первого советского десятилетия выступили едва ли не самыми последовательными оппонентами этой самой литературы. Об опасности формирования новой богемы в 1927 году пишут В. Полонский, А. Воронский, А. Лежнев; на эту тему рассуждают и не имеющие еще никаких критических заслуг С. Пакентрейгер и Б. Губер, также оперирующие лозунгами культуры и качества. С позиций этой мифической культурности Б. Губер обращается к начинающим пролетарским писателям, советует «новоиспеченным писателям», возведенным недобросовестной критикой в ранг «пролетарских Гоголя и Чехова», не торопиться в профессиональные литераторы: «Ни в коем случае нельзя отрываться от производства и среды или тем паче строить свое материальное положение на литературном труде» [17; 163–164]. Эта дань отчасти троцкизму весьма сузила платформу литературной дискуссии с оппонентами и привела к раздорам в среде «Перевала», где объединились писатели, не имеющие никакого «органического» родства – ни мировоззренческого, ни эстетического, ни дружеского (в сравнении с Серапионами). Уже в 1928 году «органичный» И. Уткин пишет статью-донос на «органичного» А. Веселого, по которому в 1929-м принимается специальное постановление ЦК, и т. п.
Поучаствовав в едином фронте разгрома всех прежних метафизических основ русской литературы, срубив «под корень» (Д. Горбов) литературу внешней и внутренней эмиграции, критики-перевальцы оказались к концу 1927 года один на один с оппонентами, никогда не отказывавшимися от «тенденциозности» искусства.
Список литературы Pro et contra литературной концепции «искусство есть познание жизни» критиков «Перевала»
- Белая Г. Дон-Кихоты 20-х годов. «Перевал» и судьба его идей. М.: Сов. писатель, 1989. 395 с.
- Воронский А. Серапионовы братья: Альманах первый. Алконост. Петербург. 1922 г. Стр. 125/Петербургский альманах. Книга первая. Изд. Гржебина. Петербург-Берлин. 1922 г. Стр. 234//Красная новь. 1922. № 3. С. 265-268.
- Воронский А. Фрейдизм и искусство//Красная новь. 1925. № 7. С. 241-262.
- Воронский А. Литературные типы. М.: Артель писателей «Круг», 1927. 269 с.
- Воронский А. Избранные статьи о литературе/Сост. Г. А. Воронская. М.: Худож. лит., 1982. 527 с.
- Воронский А. Искусство как познание жизни и современность (К вопросу о наших литературных разногласиях) [1923]//Воронский А. Избранные статьи о литературе/Сост. Г. А. Воронская. М.: Худож. лит., 1982. С. 300-333.
- Воронский А. О хлесткой фразе и классиках (К вопросу о наших литературных разногласиях) [1923]//Воронский А. Избранные статьи о литературе/Сост. Г. А. Воронская. М.: Худож. лит., 1982. С. 290-300.
- Гегель Г.-В.-Ф. Эстетика: В 4 т. Т. 2. М.: Искусство, 1969.
- Горбов Д. По облакам//Накануне. Литературное приложение. 1922. № 22. 15 окт.
- Горбов Д. «Ритмы свои, художник…»//Красная нива. 1923. № 45. С. 6.
- Горбов Д. «Феникс». Сборник художественно-литературный, научный и философский. Изд-ство «Костры». М. 1922. Стр. 190//Печать и революция. 1923. № 2. С. 227-230.
- Горбов Д. Итоги литературного года//Новый мир. 1925. № 10.
- Горбов Д. В поисках темы//Красная новь. 1926. № 12. С. 234-242.
- Горбов Д. Мертвая красота и живучее безобразие//Красная новь. 1926. № 7. С. 234-245.
- Горбов Д. 10 лет литературы за рубежом//Печать и революция. 1927. № 8. С. 9-35.
- Григорьев И. Психоанализ как метод исследования художественной литературы//Красная новь. 1925. № 7.
- Губер Б. О быте и нравах советского Передонова//Перевал. Сборник IV. М.; Л., 1926.
- Декларация Всесоюзного объединения рабоче-крестьянских писателей «Перевал»//Красная новь. 1927. № 2.
- Декларация Всесоюзного объединения рабоче-крестьянских писателей «Перевал//Красная новь. 1937. № 2. С. 232-233
- Динерштейн Е. А. К. Воронский: в поисках живой воды. М.: РОССПЭН, 2001. 360 с.
- Замошкин Н. К вопросу о творчестве «гениев» и «безумцев»//Печать и революция. 1927. № 5.
- Замятин Е. О сегодняшнем и современном [1924]//Замятин Е. Я боюсь: Литературная критика. Публицистика. Воспоминания/Сост. и коммент. А. Ю. Галушкина. М.: Наследие, 1999.
- Лежнев А. Заметки о журналах. 1. На правом фланге (О журналах «Россия» и «Русский современник»)//Печать и революция. 1924. № 6. С. 123-130.
- Лежнев А. «Русский современник». Литературно-художественный журнал. № 1. Л.-М., 1924 г.//Красная новь. 1924. № 4.
- Лежнев А. Три книги (С. Клычков, В. Шкловский, Ив. Евдокимов)//Печать и революция. 1926. № 8. С. 80-85.
- Лежнев А. Художественная литература//Печать и революция. 1927. № 7. С. 81-118.
- Литературные манифесты от символизма до наших дней/Сост. и предисловие С. Б. Джимбинова. М.: ХХI век -Согласие, 2000. 606 с.
- Луначарский А. Чем может быть А. П. Чехов для нас//Печать и революция. 1924. № 4.
- Луначарский А. Собр. соч.: В 8 т. Т. 8. М.: Худож. лит., 1964.
- Осоргин М. Российские журналы//Современные записки. XXII. Париж, 1924.
- Пакентрейгер С. Талант равнодушия (Пант. Романов)//Печать и революция. 1926. № 8.
- Пакентрейгер С. Лирика ума (М. Светлов)//Новый мир. 1927. № 10.
- Перевал. Сборник № 1/Под ред. А. Веселого, А. Воронского, М. Голодного, В. Казина. М., 1924.
- Перевал. Сборник IV. М.; Л., 1926.
- Переверзев В. Ф. На фронтах текущей беллетристики//Печать и революция. 1924. № 4. С. 127-133.
- Платонов А. Впрок//Новый мир. 1993. № 4.
- Платонов А. Сочинения. Т. 1. Кн. 2. М.: ИМЛИ РАН, 2004. 512 с.
- Полонский В. О литературе. Избранные статьи. М.: Сов. писатель, 1988. 496 с.
- Полонский В. «Моя борьба на литературном фронте». Дневник//Новый мир. 2008. № 4. С. 125-142.
- Смирнов Н. Солнце мертвых (Заметки об эмигрантской литературе)//Красная новь. 1924. № 3. С. 251-266.
- Субботин С. Борис Эйхенбаум о Сергее Есенине в 1926-1927 годах//Revua des Etudes slaves. Paris, 1995.
- Эйдинова В. О Вячеславе Полонском//Полонский В. О литературе. Избранные статьи. М., 1988. С. 3-28.
- Эйхенбаум Б. В ожидании литературы//Русский современник. 1924. № 1.
- Чуковский К. Портреты современных писателей: Алексей Толстой//Русский современник. 1924. № 1. С. 253-271.
- Шагинян М. Писатель болен//Россия. 1925. № 5.
- Я. Ф. Алексей Толстой. «Хождение по мукам». Роман (первая часть трилогии). Кн. I и II. Издание автора. Л. 1925 г. Стр. 126 плюс 198/«Похождения Невзорова, или Ибикус». Пов. Гиз. Л.-М. 1925 г. Стр. 167//Новый мир. 1925. № 11. С. 149-150.