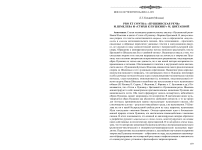Pro et contra: "Пушкинская речь" И. Шмелева и "Стихи к Пушкину" М. Цветаевой
Автор: Кихней Любовь Геннадьевна
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Русская литература и литература народов России
Статья в выпуске: 3 (62), 2022 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена сравнительному анализу «Пушкинской речи» Ивана Шмелева и цикла «Стихи к Пушкину» Марины Цветаевой. В дискуссионном разрезе эти тексты сопоставляются впервые, чем и определяется актуальность и новизна исследовательского подхода. Цель исследования - проследить смысловые и образные переклички указанных текстов в дискуссионном ракурсе, не упуская из виду идеологический контекст эмигрантской культурной диаспоры. Обращение к компаративистскому методу позволило рассмотреть тексты Цветаевой и Шмелева как бы в «двойной оптике». Выдвигается мысль о том, что смысловая энергия этих текстов направлена как на личность и творчество Пушкина, так и на самих авторов как на архетипических реципиентов, моделирующих образ Пушкина не только как данность, но и как некий паттерн восприятия современников и потомков. Обосновывается гипотеза о внутренней связи цветаевского цикла с «Пушкинской речью» Шмелева, явившегося своего рода потаенным спором со Шмелевым и его духовными соратниками. Выявление ряда адресных подтекстов позволяет утверждать, что цветаевские стихи о Пушкине, интегрируя в себе ключевые поэтологические идеи и коммуникативно-полемические тактики поэтессы, стали косвенным, имплицитным (и, возможно, подсознательным) ответом на речь Ивана Шмелева и подобные ему выступления в честь пушкинского юбилея (И. Ильина, П. Струве, Г. Федотова, С. Франка, о. С. Булгакова и др.). Показывается, что «Стихи к Пушкину» Цветаевой и «Пушкинская речь» Шмелева концентрируют в себе диаметрально противоположные концепции Пушкина как национального поэта. Оба текста формируют модель посмертного, юбилейного образа Пушкина, задают координаты его восприятия. В цветаевском цикле культивируются образ Пушкина как абсолютно свободной личности; в то же время для поэтессы принципиально важна «мускулатура» пушкинского письма, ибо стихотворство для нее - результат тяжелейшего труда, а не вдохновения. У Шмелева же ни о какой беспредельной свободе речи не идет, напротив, пушкинская Муза «послушна» «велению Божию». Отсюда проистекает идея о боговдохновенной природе стихов Пушкина, его мистическом взаимодействии с высшими силами. В итоге доказывается, что каждый из анализируемых авторов обратился к разработке русского национального типа поэта, конституируемого на основе своих собственных поэтологических представлений. В то же время в статье показано, что эти авторские концепции Пушкина включены в неотрадиционалистскую (религиозно-мистическую) и модернистско-авангардистскую культурные парадигмы. Перспективы исследования связаны с дальнейшим изучением восприятия творчества Пушкина потомками - собратьями по перу, исследованием закономерностей формирования его посмертной репутации и мифологизации в зависимости от социокультурных установок и философских запросов времени.
Пушкин, шмелев, цветаева, контрапункт, юбилейные стихи, пушкинская речь, моделирование образа, образ национального поэта, полемика, архетип, миф
Короткий адрес: https://sciup.org/149141325
IDR: 149141325 | DOI: 10.54770/20729316-2022-3-139
Текст научной статьи Pro et contra: "Пушкинская речь" И. Шмелева и "Стихи к Пушкину" М. Цветаевой
Цикл «Стихи к Пушкину» Марины Цветаевой (1931, 1933, 1937), как и «Пушкинская речь» И.С. Шмелева, несколько раз прочитанная им в столетнюю годовщину со дня смерти поэта (1937), неоднократно привлекали внимание исследователей.
Так, в ряде работ о Цветаевой, в частности, В.Н. Орлова [Орлов 1981, 4-18], А. Смита [Смит 1998; Смит 1995, 237-244], И. Зубовой [Зубова 1995], И. Кресиковой [Кресикова 2001], Л.В. Тышковской [Тышковская 1995, 118-120], Л.Д. Любимовой [Любимова 1998, 337-341], выявляются культурно-исторические реалии, биографические подтексты, включенные в содержательную структуру цикла; анализируется поэтическая стилистика, ритмические особенности. Другой ряд авторов (Ю.В. Шатин [Шатин 1991, 8-11], М.И. Фейнберг [Фейнберг 1993, 237-244], И. Куку-лин [Кукулин 1998, 122-137], Л.Г. Кихней, Т.С. Круглова [Кихней, Круглова 2016, 40-48], О.А. Клинг [Клинг 2020, 9-33] и др.) делает акцент на сугубо авторском видении Цветаевой Пушкина, идущем вразрез с общепринятыми концепциями, отмечают рецепции пушкинского творчества и автореминисценции из стихотворений самой Цветаевой. Следует заметить, что практически все цветаеведы, включая автора этих строк, отмечая полемическую направленность «Стихов к Пушкину», не ставят своей задачей уточнить, конкретизировать обобщенно-прототипический образ цветаевских оппонентов («пушкиньянцев»), Между тем, это интересная проблема, может быть, не столько историко-литературная, сколько культурологическая.
«Пушкинская речь» И.С. Шмелева также не обделена вниманием исследователей, хотя и в гораздо меньшей мере, чем цветаевский цикл. Ее тонко анализирует Н.М. Солнцева в контексте жизнеописания Ивана Шмелева [Солнцева 2007]; ей посвятил свой аналитический комментарий В.А. Кошелев [Кошелев 2004, 11-18]. Особенно скрупулезно и обстоятельно шмелевскую речь рассмотрел И.А. Есаулов [Есаулов 2013, 405-425]. Ценность его подхода в том, что он проанализировал выступление Шмелева в контексте «пушкинской речи» Ф.М. Достоевского и ряда других критических и философских текстов, контекстуально углубляющих восприятие Пушкина, в том числе, и наших современников.
Однако сравнительным анализом этих текстов фактически никто не занимался -ив силу отдаленности творческих вселенных Шмелева и Цветаевой, и по причине разности, даже полярности концепций, воплощенных в этих произведениях. Мы же выдвигаем гипотезу о внутренней связи цветаевского цикла с «Пушкинской речью» Шмелева, явившейся своего рода потаенным спором, имплицитным и, возможно, неосознанным ответом на речь Шмелева и подобные ему выступления в честь пушкинского юбилея.
Пушкин как индикатор общественного мнения эмигрантской диаспоры. Обращение к методу компаративистского анализа позволило сопоставить тексты Цветаевой и Шмелева и рассмотреть их «в двойной оптике». На наш взгляд, смысловая энергия этих текстов направлена как на личность и творчество Пушкина, так и на самих авторов как на архетипических реципиентов, моделирующих образ Пушкина для современников и потомков. В частности, за Шмелевым стоит традиция восприятия Пушкина (в том числе традиция юбилейных речей при открытии памятника Пушкину) и большая часть эмигрантской общественности. Огромный успех шмелевской речи, прочитанной на юбилейных торжествах в Варшаве и многократно перепечатанной, отнюдь не случаен: она - рупор коллективного мнения.
Юбилейные тексты, приуроченные к 100-летию со дня смерти Пушкина (1937), а также более ранним текстам, посвященным круглым датам со дня его рождения, имеют особый имиджевый статус: они моделируют посмертную литературную репутацию Пушкина, участвуют в процессе творения литературного мифа о нем.
И «Пушкинская речь» Ивана Шмелева, и цветаевский цикл «Стихи к Пушкину» - своего рода сублимация противостоящих линий осмысления личности и творчества Пушкина известными русскими писателями, публицистами и религиозными философами.
В эмигрантской интеллектуальной среде сложился устойчивый канон восприятия Пушкина как выразителя русской души, национального и исторического самосознания, учителя жизни, поэта глубокого религиозного мироощущения, русского патриота и, более того, защитника монархического строя. И в шмелевской «речи» сконцентрированы смысловые токи не только речей Н. Гоголя, Ф. Достоевского (на которых он прямо ссылается), но и суждений (также зачастую озвученных в юбилейном 1937 г.) близких ему по духу и по изгнаннической судьбе мыслителей - И. Ильина [Ильин 2000, 182-192], о. С. Булгакова [Булгаков 2000, 119-142], С. Франка [Франк 2000, 95-111], Г. Федотова [Федотов 149-168], Г. Ландау [Ландау 2000, 8-12], К. Зайцева [Зайцев 2000, 13-23] и многих других.
Интерпретация Цветаевой Пушкина заявлена как сугубо индивидуальная и сугубо полемичная, направленная как раз против означенного выше канона. Об этом Цветаева пишет своей чешской корреспондентке Анне Тесковой в письме от 26 января 1937 г: «Они <«Стихи к Пушкину» - Л.К.> для чтения в Праге не подойдут, ибо они мой, поэта, единоличный вызов -лицемерам тогда и теперь. И ответственность за них должна быть - единоличная» [Цветаева 1995, 449].
Однако в своей трактовке Пушкина - в анализируемом цикле и примыкающей к нему прозе («Искусство при свете совести», «Мой Пушкин» и «Пугачев») - сублимированы точки зрения, тяготеющие к «бунтарской» интерпретации Пушкина - такие, как эссе М. Гершензона [Гершензон 1990, 207-243] или речь о Пушкине И. Зданевича [Зданевич 2000, 24-25], не допущенная к юбилейным чтениям, или же статья В. Ходасевича [Ходасевич 2000, 143-148], полемически направленная против образа Пушкина, воссозданного в его юбилейной речи 1937 г, а шире - против религиозномистической интерпретации пушкинского гения.
Если Шмелев выражает точку зрения на Пушкина, укорененную в тра-

диции и в общественном мнении современников, то Цветаева, по свойственному ей нравственному императиву всегда идти «против течения», заведомо противостоит этому «общему мнению». В цитированном выше письме Анне Тесковой она характеризует свои стихи следующим образом: «Страшно-резкие, страшно-вольные, ничего общего с канонизированным Пушкиным не имеющие, <...> внутренне - мятежные, с вызовом каждой строки...» [Цветаева 1995, 450].
Этот «вызов» задает своего рода интригу при сопоставлении этих диаметрально противоположных трактовок Пушкина, которые в литературнообщественном контексте той эпохи (да и сегодня) звучат как своего рода философский контрапункт, противостояние точек зрения, далеко выходящее за границы литературно-критической полемики.
Пушкин в восприятии Шмелева. Приступая к более пристальному анализу речи Шмелева, сделаем библиографическую оговорку. Вариант речи под названием «Заветная встреча: Из речи И.С. Шмелева в столетнюю годовщину смерти А.С. Пушкина» был опубликован в февральском номере парижского журнала «Возрождение» за 1957 г. Этот источник в нашей статье цитируется по републикации Ивана Есаулова [см.: Шмелев 2013, 414-424], данной в Приложении к его статье «Пушкинская речь Ивана Шмелева: новый контекст понимания» [Есаулов 2013, 405-425].
Итак, «что же такое Пушкин?», каково его значение «для нас», - вопрошает Шмелев.
В ответах на эти вопросы он, во-первых, отождествляет Пушкина с Россией (ср.: «В Пушкине раскрывается Россия» [Шмелев 2013, 421]) и с «нашим бытием», то есть бытием современных русских, оказавшихся в эмиграции и хранящих память о прежней «нашей России» <здесь и далее курсив мой - Л. К.> [Шмелев 2013, 416].
Во-вторых, Шмелев считает Пушкина выразителем национального сознания русского народа [Шмелев 2013, 417], духовная сущность и миссия которого, в свою очередь, отождествляется им с божественным предназначением, «Божиим велением» (которому, как доказывает Шмелев известной цитатой, Муза Пушкина «была послушна»). Отсюда - обожествление, сакрализация Пушкина, угадывание в его творчестве, с одной стороны, знаков «иного мира», а с другой, - «правды русского народа» [Шмелев 2013, 415]. Причем, эта «правда», по Шмелеву, «всех примиряет» и освещает мир божественным началом [Шмелев 2013, 415]. Доказывая эту мысль, Шмелев ссылается на религиозную сакрализацию России Гоголем, апеллирует к «Пушкинской речи» Достоевского и даже к философской системе Вл. Соловьева [Шмелев 2013, 415], и далее делает вывод, что творчество Пушкина - это «столбовая дорога», по которой далее пошла вся русская классическая литература.
Пушкин Шмелева - и пророк, встретившийся с шестикрылым серафимом, и в то же время сам серафим, который преображает наш слух и зрение и вдвигает в нашу грудь «угль, пылающий огнем» [Пушкин 2002, 77].
В-третьих, Шмелев отождествляет Пушкина и его творчество с «ро- димой стихией» русского языка. Эту мысль, исходящую от Достоевского, Шмелев мистически интерпретирует и углубляет. Вот что он пишет о пушкинском слове: «Уже не слово, а русская ткань живая, таящая дух животворящий», пушкинское слово способно «воскрешать» родную природу [Шмелев 2013, 418]. Не о таком ли слове, ставшем плотию, говорится в Евангелии от Иоанна? Не о нем ли, с библейскими отсылками, писали Гумилев в «Слове» [Гумилев 1988, 88] и Мандельштам в статье «О природе слова» [Мандельштам 1999, 217-231]? Как бы мысленно отвечая теоретикам и практикам акмеизма, Шмелев замечает, что это «осиянное» (Н.С. Гумилев) слово уже было - у Пушкина. Из этой идеи следуют несколько важнейших постулатов.
Первый из них: через Пушкина открывается тайна «нашего языка» (в сравнении с чужим языком, который жизнь заставила эмигрантов, находящихся на чужбине, слушать). «С Пушкиным мы в своем» [Шмелев 2013, 418].
Второй постулат: пушкинский язык, по Шмелеву, выкован из коллективной души народа. Для доказательства этого тезиса Шмелев сопоставляет стихотворение Пушкина с народной песней «Ивушка-ивушка...». Пушкинское слово - «животворящее», иначе говоря, это слово-логос, причем не только в христианско-богословском, но и в гераклитовском понимании Логоса как источника жизни - физической и духовной. Мощная стихия пушкинского языка, объединяющая Восток и Запад, в то же время включает «родное сердце», сердце стихии - Родины, с которой Шмелев, как уже было сказано выше, отождествляет Пушкина. Этим обусловлена народность Пушкина, его сакральность и связь с народной душой - юн-говским коллективным бессознательным.
В-четвертых, Пушкин, по убеждению Шмелева, воспел не просто Россию, а «Россию имперскую, великолепную» [Шмелев 2013, 420], доказательством этого становится каскад цитат, в том числе и из поэмы «Медный всадник». Почему Шмелев заостряет мысль на России имперской, державной? Потому что ее - как государства - уже нет. Но та Россия, по мысли Шмелева, «в каждом из нас». Отсюда формируется мысль Шмелева о пушкинском «завете» собратьям по изгнанию - быть хранителями языка, истории, менталитета ушедшей России. Эту мысль он подтверждает, цитируя проникновенное пушкинское стихотворение: «Два чувства дивно близки нам - / В них обретает сердце пищу - / Любовь к родному пепелищу, / Любовь к отеческим гробам» [Шмелев 2013, 420-421].
Мысль о падении великой державы продуцирует еще один важный аспект адресации юбилейной речи. Ее автор обращается к бывшим соотечественникам, предавшим и погубившим, по его мнению, Россию, и одновременно - к ее защитникам и патриотам. Не случайно автор «Солнца мертвых» цитирует пушкинское стихотворение «Клеветникам России». Это имплицитный ответ современным советским политикам, клевещущим на имперскую Россию. Именно им Шмелев адресует пушкинское двустишие: «Мы не признали наглой воли / Того, пред кем дрожали вы...». И в
контексте юбилейной речи следующая цитата из «Клеветников России» звучит пророчески: «.. .в бездну повалили / Мы тяготеющий над царствами кумир, / И нашей кровью искупили / Европы вольность, честь и мир» [Шмелев 2013, 421]. В последней цитате скрыта адресация к героическим усилиям Белого движения, которое пыталось защитить ценности имперской России и оказалось в эмиграции.
И, в-пятых, эта подтекстовая апелляция к добровольческому движению неожиданно генерирует «заветную» мысль Шмелева об учительной миссии Пушкина и его духовидческой роли для всей эмигрантской диаспоры. Знаменательно, что в том же юбилейном, 1937 г. Шмелев публикует в газете «Доброволец» обращение «К сынам России» (по поводу двадцатилетней годовщины Добровольчества), где подтекстовая отсылка к Белому движению выходит на смысловую поверхность. Ср.: «В эти дни мы поминаем столетие кончины нашего Гения - Пушкина. Пушкин - вот выразитель русской духовной сущности. Это признано ныне миром. Спросим себя, как бы отнесся Пушкин к подвигу Добровольчества? Ответ бесспорный: благословил бы Подвиг, был бы его Певцом» [Шмелев 2000, 116].
Идею о предначертанности пушкинского творчества, его заповедного обращения к ныне живущим Шмелев иллюстрирует двумя пушкинскими стихотворениями, как бы перенося их из пространства литературы в пространство живой жизни. Стихотворение «Я памятник себе воздвиг нерукотворный...», полагает Шмелев, - это «завет» «нам», потомкам великой России: «“Я, Александр Пушкин, велению Божию послушный, навеки с вами, со всей великой Русью, - ваш”» [Шмелев 2013, 421].
И далее Шмелев отождествляет своих собратьев по эмиграции с персонажем пушкинского «Пророка», в томлении духа, влачившегося по пустыне, а Пушкина - с Серафимом, миссия которого - преобразить его, очистив от всего наносного. Вот, собственно, это и есть, по Шмелеву, «тайна Пушкина», и состоит она в «заветной», «очистительной» встрече нас с ним, «в очищающем пламени» творчества Пушкина, которое он как бы «“вдвигает” в отверстую нашу грудь» [Шмелев 2013, 421].
Пушкин в восприятии Цветаевой. Тексты, вошедшие в цикл Марины Цветаевой «Стихи к Пушкину», написаны под знаком борьбы за подлинного Пушкина. А для этого надо очистить его образ от неподлинных напластований, юбилейных трактовок, которые опять-таки в жанровом контексте юбилейных речей навязывают Пушкину квазивысокие роли, которые ему не свойственны.
Ее цикл - это арена борьбы за подлинного Пушкина. И согласно законам ведения дискуссии, поэтесса должна привести точку зрения оппонента, чтобы затем опровергнуть ее. Это она и делает в первом стихотворении цикла, прибегая к повторяющимся вопросительным конструкциям, ключевым словом в которых становится лексема «роль»: «Пушкин в роли монумента / Гостя каменного? <...> Пушкин в роли Командора»; «Пушкин - в роли лексикона?»; «Пушкин - в роли гувернера?» и т.п. [Цветаева 1988, 273-274].
Причем каждая «роль» «выстреливает» в некоего коллективного реципиента. И в первом стихотворении цикла под этим собирательным адресатом подразумеваются эмигрантские писатели, критики и философы, авторы статей и речей, в том числе посвященных юбилейным датам рождения (1799-1929) и смерти (1837-1937) Пушкина.
Цветаевой важна не столько сама личность ее оппонента, сколько его трактовки Пушкина, для нее неприемлемые. На наш взгляд, ряд этих ролей, оспариваемых ею, наиболее рельефно отражены в рассмотренной выше речи Ивана Шмелева. Таким образом, Цветаева вступает в имплицитную полемику со Шмелевым и с его единомышленниками.
Так, роль «гувернёра», приписываемая Пушкину, - намек на воспитательное, преобразующее природу человека значение его творчества, о котором писал Шмелев в финале своей речи. То же нравственное значение придавал поздней поэзии и прозе Пушкина философ Иван Ильин, близкий друг Шмелева [Ильин 2000, 182-192]. Симптоматичны также названия некоторых юбилейных публикаций, посвященных Пушкину. Так Григорий Ландау озаглавил свою заметку (написанную к 125-летию со дня рождения Пушкина): «Пушкин как воспитатель» [Ландау 2000, 8-12]; аналогичное название Кирилл Зайцев дал название своему философскому эссе: «Пушкин как учитель жизни» [Ландау 2000, 13-23].
Роль «лексикона», приписываемая, по мнению Цветаевой, ее оппонентами Пушкину, - это также отсылка к представлениям Ивана Шмелева и его соратников (в частности, И. Ильина, И. Струве) о Пушкине как создателе русского Логоса. Роли «русопята» и «гробокопа» перекликаются (правда, в искаженной, саркастической трактовке) с мыслями Шмелева (и опять же, повторимся, его духовных сподвижников - С. Франка, С. Булгакова, Г. Федотова) о Пушкине как выразителе русской национальной идеи (уничижительно названной Цветаевой «русопятством») и его патриотической любви к «родному пепелищу» и «отеческим гробам» (что для Шмелева, как и для Пушкина, служит критерием личностного «самостоянья»).
По мысли Цветаевой, все эти «высокие» роли делают из Пушкина икону, памятник, что приводит к омертвению образа нашего национального гения. Не случайно в риторических вопросах складывается «ролевая» парадигма, семантическим ядром которой становится сема памятника из камня («Гость каменный», «монумент», «мавзолей», «Всадник Медный»),
Цветаева выстраивает следующую синтаксическую конструкцию: каскад ее издевательски-недоуменных вопросов, выявляющих позицию оппонентов-«пушкиньянцев» предваряется или сопровождается таким же каскадом антиномичных тезисов, отстаивающих подлинный образ Пушкина (разумеется, диаметрально противоположный той или иной оппонентской трактовке. Ср.: «Всех живучей и живее / Пушкин в роли мавзолея» [Цветаева 1988, 274]).
В этом тексте - и намек на мавзолей Ленина, открытый в 1930 г, и на поэму Маяковского «Владимир Ильич Ленин» с лозунгом «Ленин и теперь живее всех живых» [Маяковский 1957, 233]. 1930-е гг. задают канон вос-
приятия Ленина как «вечно живого», «всегда живого», что в немалой степени поддерживается его открытым для обозрения забальзамированным телом. И Цветаева ассоциирует с этим образом стремления, пусть самые высокие и благородные, «залить елеем», иконизировать Пушкина.
Для Цветаевой важен не просто бунт ради бунта, но противостояние всякого рода канонизации, в которой она видела опасность жизни, трактуемой ею как непрестанное становление. И она не могла смириться с тем, что Пушкина, в творческом поведении которого она находила союзника в борьбе с жизненными и художественными стереотипами, вдруг канонизировали, сделав идеологическим и художественным эталоном, неким орудием («пулеметом») в борьбе за свои политические, идеологические, литературные взгляды и убеждения.
По сути дела, в первом стихотворении она пишет не о Пушкине, а об искаженных его трактовках, навязанных ролях, стереотипах восприятия.
И еще один стереотип, уже не модели творческого поведения, а поэтики, стереотип, на который она яростно набрасывается, - это пресловутое пушкинское чувство меры, феномен пушкинской гармонии. Она отвергает роль, навязанную Пушкину, - роль эталона, «золотой середины», противопоставляя этой выморочной, по ее мнению, гармонии, пушкинскую свободу, стихийность. Причем оппозиции «мера / безмерность» и «мертвое / живое» становятся неким структурно-содержательным принципом, организующим смысловое пространство заглавного стихотворения и всего цикла в целом. Ср.: «“...Чувство меры?” Чувство - моря / Позабыли - о гранит/Бьющегося? <...>» [Цветаева 1988, 273].
Каков же, по мысли Цветаевой, подлинный Пушкин? Прежде всего, он - живой человек, воплощение витальности, творческой силы, жизненной мощи, безмерности бытия и во всех его проявлениях.
Восставая против сакрализации поэта, Цветаева полемизирует с представлениями (которые мы опять-таки находим в речи Шмелева) о божественной природе пушкинского вдохновения. Это для нее принципиальный вопрос.
Обратим внимание, что в более ранних посвящениях поэтам-современникам (конца 1910-х - начала 1920-х гг.) звучат сакральные, едва ли не молитвенные ноты в обращении к адресатам. Так, Ахматову Цветаева именует «Анной всея Руси» [Цветаева 1988, 79-80], имя Блока в опосредованно рифмует с сакральным именем (Бог), которое невозможно произнести вслух (ср.: «Имя твое - ах! Нельзя!» [Цветаева 1988, 65]; «И Имя твое, звучащее словно ангел...») [Цветаева 1988, 69].
В юбилейных же стихах Пушкину Цветаева, напротив, отвергает саму мысль о его обожествлении или о молитвенном преклонении. Ср. в стихотворении «Станок»: «Пушкинскую руку / Жму, а не лижу» [Цветаева 1988, 277]. Она отстаивает идею о своей равнозначности Пушкину, отождествляя себя с ним по принципу поэтического родства, мастерство которого она наследует, как правнук наследует генетические свойства и навыки прадеда: «Прадеду - товарка: / В той же мастерской!» [Цветаева 1988,
-
277]. При этом ни о каком божественном вдохновении и речи не идет, в Пушкине она видит труд, усилие, ломовую тягу: «Каждая помарка - / Как своей рукой» [Цветаева 1988, 277].
Итак, создавая образ Пушкина, Цветаева делает акцент на беззаконии, кощунстве («уст окаянство»), хулиганстве, подчеркивает анархическую свободу, а творчество почти не анализирует. В цикле «Стихи к Пушкину» ее сверхзадача - воплотить свое представление о Пушкине как о поэте, воссоздать архетипическую модель жизнетворческого поэта (в какой-то мере по своему образу и подобию) как свободной, никому не подчиненной анархической, имморальной личности, вне этических категорий. Ницшеанский миф о Пушкине с ключевым понятием бергсоновской «Творческой эволюции» - «жизненным порывом» [см.: Бергсон 2019].
При этом в цветаевском цикле «Стихи к Пушкину» бросаются в глаза открытые выпады против эмигрантской юбилейной критики, восславляющей Пушкина-государственника. Полемический задор и последовательное обыгрывание юбилейных постулатов эмигрантов-«пушкиньянцев», пронизывающее цикл, заставляет предположить, что Цветаева дописывала стихи именно в юбилейном, 1937 г.
Более того, есть основания предположить, что этим циклом Цветаева скрыто полемизировала непосредственно с «Пушкинской речью» Шмелева. Она иронически обыгрывает ключевые образы и мотивы «речи» Шмелева и его цитатные апелляции к Пушкину («эмигрантский статус беженцев, для которых Пушкин ассоциируется с Россией; отсылки к героике Белого движения, цитаты из «Медного всадника» («Куда ты скачешь гордый конь / И где опустишь ты копыта?»), воспевание Татьяны как символа русской души и пр. [Шмелев 2013, 423], - все эти тезисы и образные концепты саркастически парафразированы в едином четырехстрофном фрагменте первого стихотворения цикла: «Томики поставив в шкафчик - / По-смешаете ж его, / Беженство свое смешавши / С белым бешенством его! // Белокровье мозга, морга / Синь - с оскалом негра, горло / Кажущим... // Поскакал бы, Всадник Медный / Он со всех копыт - назад. / Трусоват был Ваня бедный, / Ну а он - не трусоват. // Сей, глядевший во все страны - / В роли собственной Татьяны?» <курсив мой - Л.К.> [Цветаева 1988, 274].
В таком случае имя героя пушкинского «Вурдалака» в контексте стихотворения (абсолютно не имеющее никаких коннотаций с тезисами цветаевских оппонентов) может быть воспринято как намек на имя как автора «Пушкинской речи», адресующего свою пушкинскую речь, как мы отметили выше, и к участникам Белого движения.
Обсуждение результатов. О скрытой полемике именно со Шмелевым говорят не только и не столько текстовые совпадения, но и прямая противоположность утверждаемых ими тезисов, авторских модальностей, интерпретационных модусов.
Если у Цветаевой адресаты - враги (лицемеры, убийцы, пушкиньян-цы), то у Шмелева - друзья, товарищи по эмигрантской судьбе, русские, оказавшиеся в изгнании. Она адресуется к оппонентам с разоблачитель-
ной речью, а Шмелев - к друзьям - с объединяющей.
Если Цветаева пишет о Пушкине в жизни (основываясь во многом на книге Вересаева «Пушкин в жизни»), то Шмелев пишет исключительно о творчестве.
Для Цветаевой Пушкин - негр, инородец, а для Шмелева - укоренен в русском языке, в русской народной стихии, в русской истории. У Цветаевой Пушкин - труженик-ремесленник, по нескольку раз переписывающий свои стихи, для Шмелева он - пророк, «велению Божию послушный», воплощенный Логос.
Если для Марины Цветаевой Пушкин - только поэт, поэт par excellence, и поэтому все его черты - свобода, доходящая до беззакония, жизненная сила, мощь, инаковость (инородность) - это архетипические черты поэта, то для Шмелева Пушкин больше, чем поэт, он провидец-визионер, Серафим, то есть существо высшей породы, несущий божественную истину, Божию правду.
Если для доказательства Цветаева использует принцип риторической суггестии (повтор синтаксически и ритмически однородных вопросов по каскадному принципу). То Шмелев свои тезисы последовательно выдвигает и аргументированно и в то же время страстно доказывает, прибегая к эмфатическим конструкциям и цитатам из Пушкина, Гоголя, Достоевского, священных текстов и пр.
Заключение. Подводя итог нашему анализу, заметим, что в двух текстах (Шмелева и Цветаевой) раскрываются разные архетипические концепции поэта, связанные с глубинными национально-ментальными архетипами.
Конструируя образ поэта в рамках этих архетипических моделей, авторы опираются, во-первых, на личность, модель поведения и творчество Пушкина, во-вторых, на собственные поэтологические представления, которые в свою очередь также являются составляющими культурного кода. Поэтому эти образы не столько созданы, сколько реконструированы из коллективных представлений определенного культурно-эстетического, философского сообщества с проекцией на идеального поэта, образ которого детерминирован теми или иными мировоззренческими установками эмигрантской интеллектуальной элиты.
Для Цветаевой Пушкин как ниспровергатель основ, застрельщик нового типа мышления и поведения есть архетипическая модель поэта вообще и российского поэта в особенности. Для Шмелева Пушкин - проводник Божьей воли (его категорического императива) и божественной гармонии, фокус преломления сознания русского народа, отождествляемого с его языком; он - сакральное явление, потому что он претворяет бытие - в слово.
Таким образом, эти художественные архетипы оказываются своеобразным имиджевым фильтром, который предопределяет избирательный взгляд на Пушкина. И Шмелев, и Цветаева конституируют миф о Пушкине, обращаясь к деталям его творческой биографии и поэзии, имеющим личностную значимость для них самих и их единомышленников.
Это становится возможным потому, что многогранность Пушкина как целостной творческой личности допускает амбивалентные интерпретации: протеизм Пушкина («Пушкин - наше все»), его игра на противоположностях, динамически перетекающих друг в друга, - все это позволяет структурировать разные репутационные ипостаси Пушкина в каждом из представленных Шмелевым и Цветаевой авторских мифах. При этом эти мифы аксиологически эквивалентны, ибо вшиты в общую культурную память.
Список литературы Pro et contra: "Пушкинская речь" И. Шмелева и "Стихи к Пушкину" М. Цветаевой
- Бергсон А. Творческая эволюция. М.: Академический проект, 2019. 319 с.
- Булгаков С.Н. Жребий Пушкина // Пушкин: pro et contra. Антология: в 2 т. Т. 2. М.: РХГА, 2000. С. 119-142.
- Гершензон М.О. Мудрость Пушкина // Пушкин в русской философской критике: Конец XIX - первая половина XX в. М.: Книга, 1990. С. 207-243.
- Гумилев Н.С. Стихотворения и поэмы. Л.: Советский писатель, 1988. 631 с.
- Есаулов И.А. Пушкинская речь Ивана Шмелева: новый контекст понимания // Проблемы исторической поэтики. № 11. 2013. С. 405-425.
- Зайцев К.И. Пушкин как учитель жизни // Пушкин: pro et contra. Антология: в 2 т. Т. 2. М.: РХГА, 2000. С. 13-23.
- Зданевич И. Речь на чествовании 125-летия рождения А.С. Пушкина в Сорбонне 12 июня 1924 года, не допущенная юбилейным комитетом к оглашению // Пушкин: pro et contra. Антология: в 2 т. Т. 2. М.: РХГА, 2000. С. 24-25.
- Зубова Л. Наблюдения над языком цикла М. Цветаевой «Стихи к Пушкину» // Studia Russica Budapestinensia: материалы III и IV Пушкинологического Коллоквиума в Будапеште. Будапешт, 1995. С. 246-250.
- Ильин И.А. Пророческое призвание Пушкина // Пушкин: pro et contra. Антология: в 2 т. Т. 2. М.: РХГА, 2000. С. 182-192.
- Кихней Л.Г., Круглова Т.С. Проблема адресата в цикле Марины Цветаевой «Стихи к Пушкину» // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Литературоведение. Журналистика. 2016. № 2. C. 40-48.
- Клинг О.А. М. Цветаева: разминовение со временем. Путь в будущее // Наследие Марины Цветаевой в XXI веке. ХХ Международная научно-тематическая конференция. Сборник докладов. М.: ДМЦ, 2020. С. 9-33.
- Кошелев В.А. «.Вот тайна, которую мы как будто разгадали»: «Пушкинская речь» И.С. Шмелева 1937 года // И.С. Шмелев и литературный процесс XX-XXI вв.: Итоги, проблемы, перспективы. X Крымские Международные Шмелев-ские чтения. М.: Российский фонд культуры, 2004. С. 11-18.
- Кресикова И. Цветаева и Пушкин. Попытка проникновения. М.: РОЙ, 2001. 168 с.
- Кукулин И. «Русский Бог» на rendez-vous (О цикле М.И. Цветаевой «Стихи к А.С. Пушкину») // Вопросы литературы. 1998. № 5. С. 122-137.
- Ландау Г. А. Пушкин как воспитатель // Пушкин: pro et contra. Антология: в 2 т. Т. 2. М.: РХГА, 2000. С. 8-12.
- Любимова Л.Д. Пушкин Цветаевой и пушкинистика Ходасевича: (К вопросу о традиции в «Серебряном веке») // Константин Бальмонт, Марина Цветаева и художественные искания ХХ века: Межвузовский сборник научных трудов. Вып. 3. Иваново: ИвГУ, 1998. С. 337-344.
- Мандельштам О.Э. О природе слова // Мандельштам О.Э. Собрание сочинений: в 4 т. Т. 1. М.: Арт-Бизнес-Центр, 1999. С. 217-231.
- Маяковский В.В. Владимир Ильич Ленин // Маяковский В.В. Полное собрание сочинений: в 13 т. Т. 6. М.: ГИХЛ, 1957. С. 231-309.
- Орлов В.Н. «Сильная вещь - поэзия!» // Цветаева М. Мой Пушкин. М.: Художественная литература, 1981. С. 4-18.
- Пушкин А.С. Сочинения. М.: Олма-Пресс, 2002. 799 с.
- Смит А. Песнь пересмешника: Пушкин в творчестве Марины Цветаевой. М.: Дом-музей Марины Цветаевой, 1998. 249 с.
- Смит А. Роль пушкинских подтекстов в поэтике Цветаевой // Studia Russica Budapestinensia: материалы III и IV Пушкинологического Коллоквиума в Будапеште. Будапешт, 1995. С. 237-244.
- Солнцева Н.М. Иван Шмелев. Жизнь и творчество. М.: Эллис лак, 2007. 544 с.
- Струве П.Б. Дух и Слово Пушкина // Пушкин: pro et contra. Антология: в 2 т. Т. 2. М.: РХГА, 2000. С. 249-259.
- Тышковская Л.В. Пушкинские аллюзии в творчестве Цветаевой // Материалы Пушкинской научной конференции. 1-2 марта 1995 г. Киев, 1995. С. 118-120.
- Федотов Г.П. Певец Империи и Свободы // Пушкин: pro et contra. Антология: в 2 т. Т. 2. М.: РХГА, 2000. С. 149-168.
- Фейнберг М.И. Марина Цветаева о Пушкине // Творческий путь Марины Цветаевой: Первая международная научно-тематическая конференция (Москва, 7-10 сентября 1993 г.): Тезисы докладов. М.: ДМЦ, 1993. С. 16.
- Франк С.Л. Религиозность Пушкина // Пушкин: pro et contra. Антология: в 2 т. Т. 2. М.: РХГА, 2000. С. 95-111.
- Ходасевич В.Ф. «Жребий Пушкина», статья о. С.Н. Булгакова // Пушкин: pro et contra. Антология: в 2 т. Т. 2. М.: РХГА, 2000. С. 143-148.
- Цветаева М.И. Собрание сочинений: в 7 т. Т. 6. М.: Эллис Лак, 1995. 800 с.
- Цветаева М.И. Сочинения: в 2 т. Т. 1. М.: Художественная литература, 1988. 719 с.
- Шатин Ю.В. В полемике с веком // Цветаева М. В полемике с веком. Новосибирск: Наука. Сибирское отделение, 1991. С. 3-19.
- Шмелев И.С. Заветная встреча. Из речи И.С. Шмелева в столетнюю годовщину смерти Пушкина // Проблемы исторической поэтики. 2013. № 11. С. 414424.
- Шмелев И.С. Сынам России / Из газеты «Доброволец» (февраль 1937 г.) // Пушкин: pro et contra. Антология: в 2 т. Т. 2. М.: РХГА, 2000. С. 115-117.