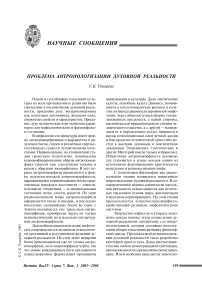Проблема антропологизации духовной реальности
Автор: Токарева С.Б.
Журнал: Logos et Praxis @logos-et-praxis
Рубрика: Научные сообщения
Статья в выпуске: 3, 2003 года.
Бесплатный доступ
Короткий адрес: https://sciup.org/14974048
IDR: 14974048
Текст статьи Проблема антропологизации духовной реальности
С.Б. Токарева
Одной из устойчивых тенденций культуры на всем протяжении ее развития было стремление к очеловечению духовной реальности, приданию духу, воспринимаемому как некоторая автономная, внешняя сила, антропных свойств и характеристик. Придание духу человеческих черт особенно характерно для мифологического и философского сознания.
В мифологии эта процедура имеет форму антропоморфизации и выражается в наделении богов, героев и различных сверхъестественных существ человеческими качествами. Первоначально, на хтонической стадии греческого политеизма, минимально персонифицированные образы антропоморфных существ еще соседствуют сплошь и рядом с образами зооморфными. В этот период антропоморфизм проявляется в форме психологической антропоморфности, выражающейся в приписывании богам нравственных пороков и достоинств — зависти, ненависти, сочувствия, — и эмоциональных состояний гнева, злости, радости. По мере рационализации мифа антропоморфизм оформляется также и внешне, и последнее поколение олимпийских богов во главе с Зевсом оказывается уже предельно антропоморфным, приобретая черты не только психологической, но и идеально-скульптурной антропоморфности.
Дальнейшая рационализация мифологии сопровождается активным осмыслением креативной и регулятивной функций духовной реальности. На этом этапе иерархии богов приписываются уже не только антропоморфные, но и социоморфные черты, так что новые рождающиеся боги оказываются олицетворением формальных принципов цивилизации и культуры. Даже мистические культы, подобные культу Диониса, появившиеся в послегомеровские времена в качестве антипода рационализированной мифологии, через общедоступную форму театрализованных празднеств, с одной стороны, высвобождали иррациональную стихию человеческого существа, а с другой — направляли ее в определенное русло, привнося в массы непосвященных идеи вечной жизни и благородства человеческой души (ибо доступ к высшим духовным и мистическим доктринам Элевсинских, гностических и других Мистерий имели только избранные). Избыточная антропоморфность духовных сил становится в конце концов одним из источников формирования критического мышления и рационализации мифа.
С появлением философии как рационального знания начинается понятийное переосмысление духовной реальности. В до-сократический период античности идеальная реальность осмысливается как безличная смысловая основа мира, воплощенная в исходном первопринципе. На этой стадии преодолевается антропосоциоморфизм, свойственный развитым мифологическим системам.
Творчество софистов и Сократа положило начало новому этапу осмысления духовной реальности, связанному с ее антро-пологизацией, которая составила впоследствии общую тенденцию развития философской мысли. Предпосылкой антропологиза-ции духовной реальности стала разработка категорий души и духа. Душа рассматривается как особая нематериальная субстанция, организованная по организмическому принципу. В ней особенно выделяется эпистемо- логический аспект, представленный интеллектуальной способностью, которая все более дифференцируется от души, получая особое имя — ум (нус), и занимает самую высокую ступень в иерархии душевных склонностей.
Понятие «дух» рассматривается в классической античной философии в самодовлеющем идеальном смысле. Как в сократической философии, так и у Платона отсутствует еще представление о духе как о личностном и творящем начале. Дух отождествляется с «умом», который, хотя и стоит в духовной иерархии выше органистически устроенной души, является все же не живой субстанцией, а скорее «чистым умом» как логически-онтологической мыслительной конструкцией. Антропологизация на этом этапе состоит в том, что дух понимается как индивидуализированная сущность (но еще не является духовной индивидуальностью), чья созидательная функция ограничивается формообразованием. Интеллект не способен создавать чувственно-материальные вещи, он способен только их мыслить и обобщать в предельных категориях. Эти предельные категориальные обобщения воспринимаются как абсолютный идеал, восхождение к которому осуществляется посредством теоретической деятельности. К интеллекту в конечном счете сводятся все духовные движения; даже религиозный экстаз рассматривается как интеллектуальное состояние. Все это свидетельствует о неразвитости и узости содержания духовной жизни в античности, о гипертрофированном и утонченном развитии одной лишь ее стороны — интеллектуальной. Не удивительно, что антропологизация духа здесь также имеет форму интеллектуализма.
Таким образом, выдающимся завоеванием античности является достижение смыслового единства духа посредством онтоло-гизации идеального начала, которое берется как подлинное бытие и фиксируется при помощи идей (категорий). Сфера духа обособляется от души в качестве бытийствую-щего идеального начала — вечного, неизменного, совершенного и неподвижного, которому приписывается лишь абстрактная активность — вроде той, какой наделена форма у Аристотеля.
Следующим шагом на пути антропологизации духовной реальности является неоплатонизм, разработавший учение о пре образовании духа. Главная идея неоплатоников состояла в том, что между человеческим и божественным духом нет непреодолимой пропасти, и человеческая жизнь, оставаясь земной, может достигать высших степеней духовности. Неоплатонизм стал идейным источником множества духовных течений — от преклонения перед чувственно-материальным космосом до спиритуализма. Антропологизация духовной реальности в неоплатонизме осуществляется через идею одухотворенности земной жизни, оказавшую огромное влияние на последующие эпохи и культуры — средневековую, возрожденческую, нововременную — каждая из которых по-своему осмыслила идею духовного преобразования человека на его пути к единению с Богом.
Христианская традиция имела сложные отношения с неоплатонизмом. Христианство прерывает сложившуюся в античности тенденцию антропологизации духовной реальности. Проясняя понятия, посредством которых специфицируется духовный опыт — «дух», «душа», «внутренний человек», «вера», «рефлексия», — оно впервые по-настоящему открывает духовную сферу бытия, обособляя ее от области душевного и интеллектуального. Духовный мир понимается как арена всеприсутствия и действия Святого Духа. Характеристики этого пространства не являются антропными, сопряженными с человеческим измерением, но соотносятся с абсолютными духовными ценностями. В соответствии с этой новой, «не слишком человеческой» размерностью, христианство переориентирует материальнофизические, конкретно-зримые представления о духе и душе на трансцендентные образы духа и идеальные, незримые формы существования души.
Сферы духа и души все более разделяются при одновременном установлении между ними строгой иерархии. При этом антропные характеристики остаются на стороне «душевного», тогда как Дух в качестве абсолютного начала соотносится с космическим Творцом, и его «глубины» скрыты от человека. Античную идею об умопостигаемом условии чувственного мира христианство проинтерпретировало в терминах оппозиции чувственное (земное) — духовное (небесное), благодаря чему стала возможна разработка учения о духе и духовности «в чистом виде». Многообразие духовных сущ- ностей составляет сложную иерархию форм бытия. Абсолютной духовной сущностью и началом является Бог, третьей ипостасью которого — Святым Духом — определяется смысловая наполненность концептов «дух», «душа», «духовность». Святой Дух реализуется как энергетическое, динамическое начало, через уподобление которому душа рассматривается как животворящий дух и «божественное дыхание». Святой Дух обладает святостью по естеству — в отличие от всего сотворенного бытия, которое получает святость лишь по благодати.
Согласно христианской доктрине, всему сотворенному бытию, в том числе и не связанным с чувственным миром ангелам, присуща телесность. Однако принадлежность к небесному миру выводит их за рамки «антропного пространства» с присущими ему состояниями изменения. В христианстве, таким образом, признается изначальная сфера чистой небесной духовности, не подлежащей антропологизации в силу присущего ей абсолютного характера. Разработка в рамках христианской доктрины понятия личности как духовной индивидуальности, наделенной креативными способностями, подготовила новый этап процесса антропологизации духовной реальности.
Этот новый этап принято характеризовать как «антропологический поворот», под которым понимают решительное оборачивание к человеческой субъективности. Антропологический поворот приходится на эпоху Возрождения, когда и проблемы духа, и проблемы природы стали обсуждаться в связи с человека и ради человека. Антропо-логизация имеет здесь форму антропоцентризма. Человек ставится выше природы и даже выше абсолютного духа: «Он сам — наилучшая природа, он сам — наивысший абсолютный дух. И это абсолютизирование человеческой личности — то новое, что мы находим в эпоху Возрождения. Это — антропоцентризм» 1.
После эпохи Возрождения, в Новое время, превозношение человека достигло своего апогея, что привело к небывалому развитию субъективизма и психологизма. Антропологизация духа приобретает форму субъективизации, и решающую роль в этом процессе сыграла философия Декарта, который провозгласил уверенность субъекта в своей тождественности. Рефлексия была объявлена реальностью более достоверной и более открытой, чем все другие сферы человеческого существования. Идея прозрачности самосознания легла в основу учения об интроспекции. Благодаря эмансипации сознания от телесных, инстинктивных, ментальных и подсознательных элементов человеческое Я отождествляется с неизменным и самотождественным индивидуальным сознанием. С тех пор философия упрочивает это тождество, высшей точкой которого является гегелевская Идея, понятая как субъект-субстанция. Главное качество, которое Гегель приписывает духу и в котором он, следовательно, усматривает его жизненность, его жизненную силу, состоит в стремлении к самопознанию: «Познание своего понятия принадлежит самой природе духа... Побуждающий к самопознанию бог есть не что иное, как собственный абсолютный закон духа»2. В отличие от самопознания, понимаемого в обычном, тривиальном смысле как исследования погрешностей и слабостей индивида, которое Гегель насмешливо называет «самодовольным няньчань-ем индивидуума со своими, ему одному дорогими особенностями», философия понимает самопознание как познание всеобщей интеллектуальной и моральной природы человека. Таким образом, «эпистемологический крен», приданный процессу антропологизации духа Декартом, не только не устраняется, но и усиливается в классический период. Не в последнюю очередь это связано с бурным развитием науки и возрастанием в ней значения интеллектуальных построений, которые, преодолевая рамки рассудочного мышления, превращаются в моделирование знаниевой реальности как системы понятийных конструкций, надстраивающихся над эмпирической реальностью в виде идеализированного объекта, характеристики которого соотносятся с Разумом как таковым. Духовная реальность выступает, таким образом, в виде трансцендентальной субъективности — совокупности обобщенных и объективированных условий мысли, сформировавшихся в процессе исторического развития познания.
Хотя немецкий классический идеализм еще связывает личностный дух с духом природы и божеством (например, у Гегеля абсолютный дух имеет природу и общество своим инобытием), интерес к божественному духу и природе оказывается вторичным, тогда как на первый план выходят интересы жизни личности. Божественный дух и природа оказываются формальными, абстрактными моментами жизни человека, личности, а у Фихте человеческая личность прямо порождает из себя все: и природу, и само божество. Западная философия, таким образом, окончательно отказывается от поклонения природе и начинает крайне абстрактно трактовать божественный дух. При таком подходе, когда дух оказывается просто абстракцией, антропоценризм приобретает натуралистический характер, что мы и видим на примере философии Фейербаха.
С XVII до конца XIX века магистральная линия философии была связана с утверждением принципа cogito как выражением обретенного доверия к разуму. Однако с конца XIX века интерес к человеческой субъективности перерастает в субъективизм и психологизм: человеку приписывается такая субъективность, которая, отрицая все, доходит до обожествления самой себя. В результате «естественные благородные переживания человека стали толковаться исключительно как субъективистские. И западноевропейский субъект, впадая в крайний субъективизм и в психологизм, впадал в декадентство, то есть в такое состояние, когда человек любуется своими переживаниями, смакует их и ничего не замечает, кроме своих переживаний»3. Картина духовной жизни субъекта невыразимо обедняет ся, в результате неминуемо возникает изоляция личности от природы и божественного Духа и, как следствие, утрата ею важнейших сторон духовного опыта.
Вырождение антропологизации духа в субъективизм ведет к постепенному упразднению спиритуализма — философии абсолютного Духа, — психологическому самообольщению и «смакованию чувств», весьма далекому от подлинной культуры чувства. На первый план выходит интимно переживающий субъект, а потому руководящее значение духовного начала во всем бытии неумолимо падает — вплоть до признания недоступной духовной основы бытия. Между тем антропологизация духа отнюдь не состоит в его уничтожении. Она предполагает достижение соразмерности Духа и субъективной реальности. Абсолют должен быть продуман, прочувствован; только в этом случае антропологизация оказывается тем духовным процессом, который устремляет человека к свободным и идеальным формам человеческого существования, к духовному совершенству.
Список литературы Проблема антропологизации духовной реальности
- Лосев А.Ф. Философия. Мифология. Культура. М., 1991. С. 376.
- Гегель В.Г.Ф. Энциклопедия философских наук. М., 1977. Т. 3. С. 6-7.
- Лосев А.Ф. Указ. соч. С. 378-379.