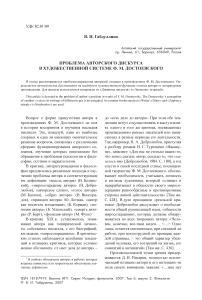Проблема авторского дискурса в художественной системе Ф. М. Достоевского
Автор: Габдуллина В.И.
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Литературоведение
Статья в выпуске: 2 т.6, 2007 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается проблема выражения авторской позиции в произведениях Ф. М. Достоевского. Определяется личный взгляд Достоевского на идейную и художественную функцию «голоса автора» в литературном произведении. Для анализа используются материалы из «Дневника писателя» и «Записных тетрадей».
Короткий адрес: https://sciup.org/14736870
IDR: 14736870 | УДК: 82.01/09
Текст научной статьи Проблема авторского дискурса в художественной системе Ф. М. Достоевского
В статье рассматривается проблема выражения авторской позиции в произведениях Ф. М. Достоевского. Определяется личный взгляд Достоевского на идейную и художественную функцию «голоса автора» в литературном произведении. Для анализа используются материалы из «Дневника писателя» и «Записных тетрадей».
This article is devoted to the problem of author`s position in works of F. M. Dostoevsky. The Dostoevsky`s conception of «author`s voice» in writings of different types is investigated. As a matter for the analysis «Writer`s Diary» and «Zapisnye tetrady» («Notebooks») are used.
Вопрос о форме присутствия автора в произведениях Ф. М. Достоевского не нов в истории восприятия и изучения наследия писателя. Это, пожалуй, один из наиболее спорных и едва ли имеющих окончательное решение вопросов, связанных с различными сферами функционирования авторского сознания, изучение которых невозможно без обращения к проблемам психологии и философии, поэтики и нарратологии.
В критике, литературоведении и философии предлагались различные подходы к изучению проблемы автора и соответствующие им дефиниции: «мысль автора» (В. Белинский), «миросозерцание автора» (Н. Добролюбов), «авторское слово», «голос автора» (М. Бахтин), «образ автора» (В. Виноградов), «принцип автора» Ю. Лотман, «автор как носитель концепции», (Б. Корман), «позиция автора» (Б. Успенский), «смерть автора» (Р. Барт), «функция-автор» (М. Фуко) 1.
В критике XIX в. установилось понимание автора как эмпирической личности, собственно писателя, с его биографией, взглядами, «миросозерцанием». В критических статьях наблюдается колебание тенденций в позициях критиков, которые условно можно обозначить: от «нет дела до автора» – до «есть дело до автора». При этом обе тенденции могут сосуществовать в выступлениях одного и того же критика, посвященных произведениям разных писателей или написанных в разные периоды его деятельности. Так, например, Н. А. Добролюбов, приступая к разбору романа И. С. Тургенева «Накануне», заявляет: «Для нас не столько важно то, что хотел сказать автор, сколько то, что сказалось им» [Добролюбов, 1984. С. 180], а год спустя в своей последней статье, посвященной творчеству Ф. М. Достоевского, обосновывает необходимость учитывать личность и взгляды художника, который «сливает и перерабатывает в общности своего миросозерцания разнообразные и противоречивые стороны живой действительности» [Там же. С. 428]. В духе принципов «реальной критики» Добролюбов рассуждает о необходимости общей руководящей идеи, «общности миросозерцания», которые должны обнаруживаться во всех творениях автора: «Человек, конечно, все-таки виден… <…> Одно лишь остается неизменным, при спешной ли работе, при многотрудной ли проверке каждой страницы, – это общий характер убеждений человека, его воззрений на жизнь, его симпатий и антипатий» [Там же. С. 436].
Противоположной точки зрения придерживается Д. И. Писарев, полностью исключающий позицию автора и его интенцию из поля своего внимания, заявляя: «…мне нет
ISSN 1818-7919. Вестник НГУ. Серия: История, филология. 2007. Том 6, выпуск 2: Филология © В. И. Габдуллина, 2007
никакого дела ни до личных убеждений автора… <…> ни до общего направления его деятельности… <…> ни даже до тех мыслей, которые автор старался, быть может, провести в своем произведении…» [Писарев, 1956. С. 162].
С проблемой интерпретации авторского высказывания Достоевского столкнулась современная писателю литературная критика, отметившая уже в первых его произведениях «неясность идеи рассказа, вследствие которой каждый понимал и имел право понимать его по-своему» [Майков, 1982. С. 87], что выделяло художественные опыты молодого писателя на фоне идеологически определенной литературы, принадлежащей к направлению «натуральной школы». В. Г. Белинский указывает на «разночтения» первых произведений писателя, связывая их с особенным характером «индивидуальности и личности таланта г. Достоевского» [Белинский, 1956. С. 13]. Пытаясь в своих разборах понять и объяснить «мысль автора», Белинский вплотную подходит к проблеме разграничения голоса автора и голоса героя, на что в свое время обратил внимание и М. М. Бахтин, ссылаясь на Белинского, первым отметившего стилистическую однородность речи автора и героя в «Двойнике»: «Автор рассказывает приключения своего героя от себя, но совершенно его языком и его понятиями» [Там же. C. 29]. На эту же стилистическую особенность, проявившуюся в романе «Униженные и оскорбленные», позднее указывает Н. А. Добролюбов: «Во всем романе действующие лица говорят, как автор; они употребляют его любимые слова, его обороты; у них такой же склад фразы <…> во всем виден сам сочинитель, а не лицо, которое говорило бы от себя» [Добролюбов, 1984. С. 431].
В статье «Забитые люди» Добролюбов много внимания уделил проблеме форм воплощения авторской позиции в произведениях Достоевского, созданных до 1861 г. Оценивая повествовательную форму романа «Униженные и оскорбленные», критик отмечает условность фигуры рассказчика: «…пе-ред нами просто автор, неловко взявший известную форму рассказа, не подумав о том, какие она на него налагает обязанности. <…> …и сам рассказчик, который по сущности дела должен бы быть действующим лицом, является нам чем-то вроде наперсника старинных трагедий» [Там же. C. 426]. По мнению критика, писатель «изобразил некоторые свои литературные отношения в записках Ивана Петровича». «…Я не считаю нескромным сказать это, потому что сам автор явно не хотел скрываться», – заявляет Добролюбов [Там же. C. 435].
Последователь Н. А. Добролюбова критик М. А. Антонович углубляет мысли своего учителя в рецензии на роман «Братья Карамазовы», утверждая, что старец Зоси-ма – «псевдоним Достоевского» [Антонович, 1956. С. 259], а роман Достоевского – это «трактат в лицах», так как «для автора самое главное мысль, тенденция, а роман – второстепенная вещь, оболочка, lacon de parter 2» [Там же. С. 257].
Еще более тенденциозные высказывания о Достоевском принадлежат Н. К. Михайловскому, который определил его талант как «жестокий», а характер самого автора объяснил посредством характеристики его героя – Фомы Опискина, «очищенного» «от глупости, грязи и ничтожества», но сохранившего главную свою черту – «беспричинную жестокость» [Михайловский, 1956. С. 331].
Философская критика конца XIX – начала XX в., сосредоточившая свое внимание на идеологическом значении творчества Достоевского и его пророческих откровениях о Христе, о вере и о богоносности русского народа, не задавалась проблемой форм воплощения авторского сознания, сходясь в мысли о том, что «все герои Достоевского – он сам, одна из сторон его бесконечно богатого и бесконечно сложного духа, и он всегда влагает в уста своих героев свои собственные гениальные мысли» [Бердяев, 1990. С. 224] 3. В результате, как замечает Д. Мережковский, сложилось представление о «двуликос-ти» Достоевского («…у него два лица – Ве- ликого Инквизитора, предтечи Антихриста, и старца Зосимы – предтечи Христа» [Мережковский, 1990. С. 87]), абсолютизирующее «раздвоенность» сознания, ставшую предметом художественного анализа Достоевского, как психологический феномен, характеризующий личность самого писателя. Это утверждение зачастую приходит в столкновение с восприятием Достоевского как пророка, что само по себе предполагает признание приобщенности писателя к высшей, единственной истине.
Особенно наглядно это противоречие проявляется в мысли А. В. Луначарского: «Достоевский был художником-лириком, который в особенности пишет о себе, для себя и от себя. Все его повести и романы – одна огненная река его собственных переживаний. Это сплошь признание сокровенного своей души. Это первый и основной момент в его творчестве. Второй – постоянное стремление заразить , убедить, потрясти читателя и исповедать перед ним свою веру» [Луначарский, 1990. С. 235]. При этом критик также говорит о раздвоенности писателя, который воплотил себя как в Иване, так и Алеше Карамазовых: «И чем же заслоняется Достоевский от собственной своей критики, вложенной в уста Ивана? – Христом, которого выдвигает Алеша» [Там же. С. 241].
В литературной науке XX в. проблема автора в произведениях Достоевского рассматривается в контексте общего интереса к вопросам авторства и разработки теории автора как субъекта творческой активности. Вопрос о форме взаимоотношений автора и созданного им художественного мира стоит в центре исследований М. Бахтина по эстетике словесного творчества. В работе «Автор и герой в эстетической деятельности» (написанной, по атрибуции комментаторов, между 1924–1929 гг. и опубликованной в 1977 г.) М. Бахтин рассматривает автора как «совокупность творческих принципов, долженствующих быть осуществленными, единство трансгредиентных моментов видения, активно относимых к герою и его миру» [Бахтин, 1979. С. 180]. В этой работе намечена позиция, с которой исследователь позднее подойдет к рассмотрению проблемы автора в произведениях Достоевского. М. Бахтин отмечает, что в прозе Достоевского обнаруживает себя так называемый «кризис авторства», который проявляется в том, что «расшатывается и представляется несущественной самая позиция вненаходимости, у автора оспаривается право быть вне жизни и завершать ее», «начинается разложение всех устойчивых трансгре-диентных форм» [Там же. С. 176]. Этот тезис получил разработку в монографии «Проблемы творчества Достоевского» (1929 г.), оформившись в утверждение, что герой сопротивляется завершающей авторской активности, и автор отказывается от своей эстетической привилегии, от принципиального авторского «избытка» в условиях новой формы полифонического романа, созданной Достоевским. И хотя М. Бахтин оговаривает: «Было бы нелепо думать, что в романах Достоевского авторское сознание никак не выражено. Сознание творца полифонического романа постоянно и повсюду присутствует в этом романе и в высшей степени активно в нем. Но функция этого сознания и формы его активности другие, чем в монологическом романе: авторское сознание не превращает другие чужие сознания (то есть сознания героев) в объекты и не дает им заочных завершающих определений. <…> Оно отражает и воссоздает не мир объектов, а именно эти чужие сознания с их мирами, воссоздает в их подлинной незавершенности (ведь именно в ней их сущность)» [Бахтин, 1972. С. 116], – вся логика его исследования поэтики романа Достоевского подчинена идее равноправия сознаний автора и героя, находящихся в диалогических отношениях друг к другу. Как резюмирует сущность концепции исследователя В. А. Свительский, по М. Бахтину, «голос автора допустим лишь на равных правах с голосами героев» [Сви-тельский, 1969. С. 14–15].
Главным объектом полемики, развернувшейся вокруг концепции полифонического романа М. М. Бахтина, стала мысль о равноправии сознаний автора и героя. По мнению Б. О. Кормана, «в основе парадоксального вывода, к которому пришел М. М. Бахтин, лежало <…> смешение автора как носителя концепции, выражением которой является все произведение, с одной из форм авторского сознания – повествователем, рассказчиком, рассказчиком-героем, хроникером и т. п. Она, действительно, равноправна с героями; ее идеологическая и речевая зона – лишь одна из многих. И она отнюдь не господствует над героями, а сама, наряду с ними, является объектом воспроизведения и предметом анализа» [Корман, 2006. С. 100–101].
Рассматривая проблему автора в художественной прозе Достоевского, Б. О. Корман различает «автора биографического» и «автора – носителя концепции»: «Под автором мы понимаем носителя концепции, выражением которой является все произведение или совокупность произведений писателя. Автор, трактуемый подобным образом, отграничивается и от реального писателя, и от таких проявлений автора, как повествователь, личный повествователь, рассказчик, рассказчик-герой и пр. Являясь высшей смысловой инстанцией, автор непосредственно не входит в произведение: он всегда опосредован субъектными и сюжетно-композиционными формами» [Там же. С. 285]. В «Экспериментальном словаре литературоведческих терминов» Б. О. Корман вводит понятия «автор – субъект (носитель) сознания» и «автор художественный (концепированный)»; «инобытием такого автора, его опосредованием является весь художественный феномен, все литературное произведение» [Там же. С. 317]. При этом исследователь ставит знаки равенства между дефинициями: «автор – носитель концепции», «автор – субъект (носитель) сознания» и «автор художественный (концепированный)», хотя, представляется, что «автор – носитель концепции» – понятие более емкое, это та ступень, которая отделяет «автора биографического» 4 от «автора художественного (концепированного)». «Автор – носитель концепции» – творец текста, он находится не внутри текста, а над ним, он – создатель как отдельных произведений, так и художественной системы в целом, воплощающей его творческую интенцию.
Автор как «высшая смысловая инстанция» организует художественный мир, подчиняя его своей художественной концепции. В этом отношении Достоевский-художник не является исключением; при создании своих произведений он в первую очередь озабочен воплощением идеи, в оценке которой писатель занимает вполне определенную позицию. Формула Б. М. Энгельгардта, определяющая роман Достоевского как «роман об идее» [Энгельгардт, 1924. С. 90], в интерпретации М. Бахтина, была включена в систему доказательств мысли исследователя об отсутствии у автора самостоятельной идеи, равной по силе идее героя. Таким образом, говоря о равноправии голосов в полифоническом мире романа Достоевского, М. Бахтин отказывает автору в равенстве с героем, отнимая у него право быть носителем собственной идеи. В то время как Энгельгардт пишет о системе идей (связанных с понятиями «среда», «почва», «земля») в романах Достоевского, ставших воплощением диалектического развития духа, в этом он видит движение авторской концепции («субъективную значимость пути для самого Достоевского») [Там же. С. 96]. Представляется, что эта мысль, оцененная М. Бахтиным как «гегельянское» заблуждение критика-философа, имеет свое рациональное зерно. Именно диалектический подход к рассмотрению творчества Достоевского привел Энгельгардта к выводу о художественном единстве произведений писателя, начиная с «Записок из подполья» и «Преступления и наказания» до его последнего романа, которое критик назвал «грандиозной эпопеей» [Там же]. М. Бахтин склонен видеть в творческой эволюции писателя прежде всего динамику художественной формы: «путь его [Достоевского] творчества есть художественная эволюция его романа, связанная, правда, с идейной эволюцией, но нерастворимая в ней» [Бахтин, 1972. С. 45].
Так или иначе, очевидно, что в произведениях Достоевского выразилось его отношение к миру, отразился его жизненный и духовный опыт. Вывод, к которому сводится большинство исследований последних лет, посвященных проблеме автора у Достоевского 5, сформулирован в словаре-справочнике «Достоевский: эстетика и поэтика»: «В творчестве Достоевского установка на объективность соединяется с сильнейшей монологической тенденцией, и интенсивная субъективность художника становится условием осуществления первой» [Свительский, 1997. С. 67].
Позиция Достоевского как художника, стремящегося высказать свое Слово о мире и человеке, проявилась как в публицистике, так и в художественном творчестве в форме «исповедания веры». Эта авторская установка не была четко сформулирована Достоевским в его публицистических выступлениях, однако «Записные тетради» позволяют судить о том, насколько важным считал Достоевский наличие у писателя руководящей идеи и положительной программы, с которой он обращается к читателю. Стоит в связи с этим привести известную мысль Достоевского из «Записной тетради 1876–1877 гг.»: «В поэзии нужна страсть, ваша идея , и непременно указующий перст, страстно поднятый. Безразличие же и реальное воспроизведение действительности ровно ничего не стоит, а главное – ничего не значит» [Т. 24. С. 308] 6. Писатель подчеркивает, что «…в художественном изложении мысль и цель обнаруживаются твердо, ясно и понятно» [Там же. С. 308]. В этой же тетради Достоевский несколько раз возвращается к мысли о необходимости в литературе положительного идеала, упрекая сатиру в его отсутствии: «У нас скорее литература дала положительное, чем сатиру. Наши сатирики не имеют положительного идеала в подкладке» [Там же. С. 303].
Положительным идеалом и « символом веры », который сложился в душе Достоевского в эпоху переоценки ценностей под влиянием каторги, стал образ Христа, о чем свидетельствует его письмо после выхода из острога, адресованное Н. Д. Фонвизиной: «… в такие минуты я сложил в себе символ веры, в котором все для меня ясно и свято. Этот символ очень прост, вот он: верить, что нет ничего прекраснее, глубже, симпатичнее, разумнее, мужественнее и совершеннее Христа…» [Т. 28/I. С. 176]. В стихотворном послании из ссылки Достоевский указывает на Христа как на «источник всепрощенья, / Источник кротости святой» [Т. 2. С. 409]. Позднее христианская идея прощения была осмыслена Достоевским как «основная мысль всего искусства девятнадцатого столетия». По Достоевскому: «Это мысль христианская и высоконравственная; формула ее – восстановление погибшего человека…» [Т. 20. С. 28].
В истории изучения Достоевского неоднократно делались попытки определить сверхидею , лежащую в основе поэтической общности всех созданных писателем произведений. Уже философская критика начала XX в. указала на идею Бога как важнейшую для понимания картины мира, созданной Достоевским. Вяч. Иванов называл реализм Достоевского « его верою », содержащей в себе «постулат Бога как реальность» [Иванов, 1990. С. 179]. В литературоведении неоднократно поднимался вопрос о системности творчества Достоевского [Одиноков, 1981; Захаров, 1985]. Литературоведение рубежа XX–XXI вв. выдвинуло идею об общем философском или мифологическом сюжете, в который выстраиваются все произведения Достоевского [Кондратьев, 2002. С. 15].
Целостной системой творчество писателя делает, в первую очередь, наличие авторской картины мира, отражающей авторскую художественно-идеологическую концепцию, последовательно разрабатываемую от произведения к произведению. Положительная программа Достоевского, сформулированная в его идее «почвы», стала тем основанием, на котором создавалась писателем его художественная концепция, воплотившаяся в произведениях, начиная с «Записок из Мертвого дома» и заканчивая «Братьями Карамазовыми». При этом необходимо учитывать, что авторская концепция 60–70-х гг. складывалась на основе предшествующего творчества Достоевского, его жизненного опыта, духовных исканий. В связи с этим уместно вспомнить мысль Ю. Н. Тынянова из работы 1924 г.: «Авторская индивидуальность не есть статическая система, литературная личность динамична, как литературная эпоха, с которой и в которой она движется. Она – не нечто подобное замкнутому пространству, в котором налицо то-то, она скорее ломаная линия, которую изламывает и направляет литературная эпоха» [Тынянов, 1977. С. 259]. Таким образом, говоря об авторской концепции Достоевского, необходимо рассматривать ее в контексте времени, всего художественного и лично-биографического опыта писателя. Синхронный и диахронный принципы анализа текста Достоевского дают возможность включить его в контекст литературной эпохи и «большого времени», в первую очередь через систему «вечных образов», евангельской образности и мотивики.
В связи с вопросом о формах выражения авторской концепции возникает необходимость в использовании таких понятий, как авторский дискурс и текст , широко используемых в современном литературоведении, в том числе и применительно к Достоевскому 7. Авторская концепция, отражением которой является совокупность произведений писателя, реализуется в авторском дискурсе, репрезентирующем идеологические, эстетические и духовно-нравственные установки Достоевского различными способами, в том числе и через систему сквозных мотивов, организующих биографию и творчество писателя в единый текст. При этом понятие «текст Достоевского» включает в себя синхронию «биографического текста» и «текста творчества», находящихся у Достоевского в состоянии взаимопроникновения и «прошитых» авторским дискурсом. В данном случае ключом к пониманию «текста» могут служить конспективные наброски М. Бахтина, где находим следующее определение: «Текст как своеобразная монада, отражающая в себе все тексты (в пределе) данной смысловой сферы» [Бахтин, 1979. С. 283].
Авторский дискурс равным образом обнаруживает себя в различных, более или менее завершенных формах: в художественных произведениях, в публицистических статьях, в черновиках, во фрагментах, в письмах и т. д., во всем, что имеет отношение к тексту Достоевского в его художественном, публицистическом и документально-биографическом воплощении.
Французские постструктуралисты, объявившие о «смерти автора» [Барт, 1994. С. 384–400], неоднозначно решают вопрос об авторском дискурсе. С точки зрения Р. Барта, «присвоить тексту автора – это значит как бы застопорить текст, наделить его окончательным значением, замкнуть письмо» [Там же. С. 389]. По Барту, где начинается письмо, там наступает «смерть автора», так как «письмо – та область неопределенности, неоднороднос- ти и уклончивости, где теряются следы нашей субъективности, черно-белый лабиринт, где исчезает всякая самотождественность, и в первую очередь телесная тождественность пишущего» [Там же. С. 384]. М. Фуко, предложивший дефиницию «функция-автор» для определения «дискурса, несущего функцию “автор”», признает, что «понятие автора конституирует важный момент индивидуализации в истории идей, знаний, литератур, равно как и в истории философии и наук», и приходит к выводу о необходимости вернуться к исследованию биографического и психологического контекста, «предпринимая внутренний и архитектонический анализ произведения». В связи с этим философ формулирует проблему: «…как, в соответствии с какими условиями и в каких формах нечто такое, как субъект, может появляться в порядке дискурсов? Какое место он, этот субъект, может занимать в каждом типе дискурса, какие функции, и подчиняясь каким правилам, может он отправлять? Короче говоря, речь идет о том, чтобы отнять у субъекта (или у его заместителя) роль некоего изначального основания и проанализировать его как переменную и сложную функцию дискурса» 8.
Необходимость исследования авторского дискурса Достоевского связана с его пониманием миссии поэта в обществе, неоднократно декларированным на страницах «Дневника писателя», и с тем, какое значение придавал сам Достоевский выявлению позиции автора, «выяснению личности» [Т. 26. С. 200] при оценке творчества А. С. Пушкина, Н. А. Некрасова, Л. Н. Толстого.
Исследование условий и имплицитных форм функционирования в тексте Достоевского авторского дискурса, прочитанного как «цепь/комплекс высказываний» 9, репрезентирующего авторские интенции и идеологические и эстетические установки, может стать тем условием, которое позволит интерпретировать творчество Достоевского с учетом авторской парадигмы и избежать произвольного истолкования произведений писателя, характерного для литературной критики и нередко встречающегося в работах современных исследователей.