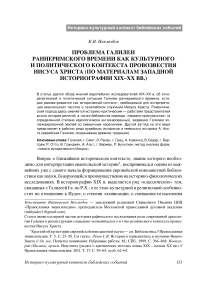Проблема Галилеи раннеримского времени как культурного и политического контекста провозвестия Иисуса Христа (по материалам западной историографии XIX–XX вв.)
Автор: Неклюдов Константин Викторович
Журнал: Христианское чтение @christian-reading
Рубрика: Историко-культурный контекст библейских событий
Статья в выпуске: 2 (49), 2013 года.
Бесплатный доступ
В статье дается обзор мнений европейских исследователей XIX–XX в. об этнорелигиозной и политической ситуации Галилеи раннеримского времени, которая рассматривается как исторический контекст, необходимый для интерпретации евангельских текстов о галилейском служении Иисуса Христа. Романтический подход здесь сменяется историко-критическим — работами представителей школы истории религий, а также библеистов периода «германо-христианства» (в определенной степени идеологически ангажированных), видевших Галилею эллинизированной землей со смешанным населением. Другой взгляд на эти вещи представлен в работах ряда иудейских историков и немецкого историка А. Альта (еврейская Галилея, сохранившая древние традиции).
Галилея, г. смит, э. ренан, г. грец, а. каминка, в. бауэр, г. бертрам, р. отто, в. грундман, а. альт, г. вермеш, р. бультман, метод анализа форм, "поиски исторического иисуса"
Короткий адрес: https://sciup.org/140189991
IDR: 140189991
Текст научной статьи Проблема Галилеи раннеримского времени как культурного и политического контекста провозвестия Иисуса Христа (по материалам западной историографии XIX–XX вв.)
Статья является первой частью историографического исследования роли современной археологии Галилеи в реконструкции социально-экономического и этно-религиозного контекста провозвестия Иисуса Христа.
(национальной идентичности галилеян), о социальном и религиозном контексте, в котором жили и проповедовали Иисус Христос и Его первые ученики.
Одним из таких вопросов во 2-й половине XIX в. для богословов и библеистов-новозаветников стал вопрос о возможном влиянии особенностей галилейского менталитета на провозвестие Христа. Огрубляя, как при создании всяких схем, в истории этой дискуссии в западной науке можно выделить несколько периодов: очевидный интерес к галилейскому «ландшафту» в романтическом направлении (Эрнст Ренан, Георг Смит и др.) сменяется (или сосуществует с) «паузой» первого (либерального) поиска исторического Иисуса (конец XIX – начало XX вв.), когда галилейский контекст уже не воспринимается как важный. Наряду с этим, проблема (прежде всего в немецкой исторической и библейской науке) получает два основных варианта решения: в работах представителей «школы истории религий» (Вальтер Бауэр) и «германо-христианства», господствующего при нацистском режиме в Германии (Георг Бертрам, Вальтер Грундман) Галилея раннеримского времени рассматривалась как полуязы-ческая земля со смешанным населением; альтернативная позиция была представлена в статях немецкого библеиста Альбрехта Альта, который пришел к выводу, что галилеяне этого времени были потомками древних израильтян, сохранившими древние религиозные традиции и верность иерусалимскому культу. «Второй поиск исторического Иисуса», начавшийся после преодоления доминирования школы Рудольфа Бультмана, отказавшего от реконструкции исторического Иисуса как невозможной по причине качества исторических источников и ненужной для христианского богословия (см. ниже), связан с именами Эрнста Кеземана и его учеников. Вопрос о галилейском социальном и религиозном контексте здесь также не включался в ряд основных и, в общем, преобладал тезис об эллинистической Галилее (Гюнтер Борнкам, Мартин Дибелиус) 2 . В качестве рубежа, завершающего этот этап исследований, в историографии часто принимают 70–80-е гг. XXв. —с одной стороны, возникает «третий поиск исторического Иисуса» с его особым акцентом на связь ряда тем проповеди Иисуса с иудейскими религиозными традициями периода Второго храма, с другой — это время становления современной археологии Галилеи 3 .
Романтизм: Эрнст Ренан, Георг Смит
В европейской новозаветной библеистике, как и в других областях гуманитарного знания (этнологии, исторической науке), с середины XIX в. очевидно влияние развивающейся в это время «исторической географии» с ее тезисом о причинно-следственной связи особенностей «расы» и характера индивидов с природным ландшафтом региона их проживания4. Типичными стали попытки противопоставить Галилею и Иудею, подчеркивая их социальные и религиозные особенности5, и поиски объяснения событий жизни Иисуса особенностями менталитета галилеян, обусловленными природой и географией этого реги- она. Примеры такого подхода со всей ясностью исследователи видят в работах Эрнста Ренана («Жизнь Иисуса» (1863)6 и Георга Адама Смита («Историческая география Святой Земли» (1897)). Книга Ренана, как отметил Х. Мокснес, маркирует начало научного подхода к исследованию Иисуса именно как галилея-нина7. Он впервые в европейской библеистике сочетает в изображении «жизни Иисуса» анализ биографических источников (у Ренана — это синоптические Евангелия) и записи путешественника-очевидца о «тех местах, где происходили события», отражающие последнее состояние знаний по исторической географии Палестины8. «Истинным откровением» для Ренана стали «поразительная согласованность текстов с местностью, чудесная гармония евангельского идеала с пейзажем, послужившим для него рамкой»9. Природный ландшафт Галилеи рассматривается им как «пятое Евангелие», которое (несмотря на запустение региона в середине XIX в.) еще можно читать: «пятое Евангелие, отрывочное, но все же доступное для чтения»10. Описание природы здесь не только романтическая иллюстрация евангельской истории, — природа Галилеи «являет истину, которая иначе уже не видима»11 .
Согласно Ренану, центральные темы проповеди Христа и самого Его мышления во многом обусловлены особенностями природы той земли, где Он воз-растал12. Великолепные виды с гор, окружавших Назарет, «хорошо располагающих ‹…› к мечтаниям об абсолютном счастье»13, — «таков был горизонт, который открывался перед Иисусом». Не только Назарет, но и вся Галилея опи- сывается как подобный «земному раю» идиллический сад14. Эта перспектива, а также историческая память сформировали Его «очаровательный кругозор», которому Ренан усваивает новое значение — это «колыбель Царства Божия», бывшая «целыми годами ‹…› Его миром»15. Точно так же как пустыня повлияла на проповедь Иоанна Крестителя о Боге-Судии, галилейский ландшафт определил представление Иисуса о Боге как о любящем Отце (вернувшись после искушения в пустыне в «свою милую Галилею», Иисус «нашел здесь своего Отца Небесного среди зеленых холмов и светлых фонтанов»16).
Влиянием ландшафта объясняется не только формирование основных тем провозвестия Христа, но и резкий контраст между характером галилеян и их южных иудейских соседей. В отличие от Галилеи, далее на юг появляется более мрачная картина: «а на юге, за этими уже не столь живописными горами Самарии, уже предчувствуется печальная Иудея, словно высушенная жгучим ветром отвлеченности и смерти» 17 . По этой же схеме Ренан оценивает характер жителей Иерусалима, «быть может, самой печальной местности в мире» 18 — это «город педантизма, язвительных острот, словопрений, ненавистничества, умственного ничтожества. Фанатизм доходил здесь до крайних пределов; религиозные восстания возникали ежедневно» 19 .
Сходное с Ренановым понимание мира Галилеи как во многом определяющем контексте евангельского провозвестия можно видеть и у шотландского богослова Георга Адама Смита20 , у которого, однако, основным мотивирующим фактором этого интереса была именно христианская вера: историческая география Палестины необходима «для нашей веры в воплощение»21. В целом, Смит признавал влияние различных природных ландшафтов на образ жизни и менталитет населения Иудеи и Галилеи22, но по сравнению с Ренаном акцент у него заметно смещен: важно понимать различие между «тем, что физическая природа дает для религиозного развития Израиля и тем, что стало результатом чисто нравственных и духовных усилий»23.
Галилея в работе Смита — существенным образом эллинизированная страна по причине ее открытости миру24, и именно греческая культура, которая вовсе не вела к «облагораживанию» религиозной жизни, вызывала у простых галилеян (Иисуса и Его первых учеников) чувство необходимости сделать нравственное (religious) усилие и преодолеть «искушение»25. Иисус не поддался ни на одно из них: «Главным уроком, который преподает Назарет, является возможность чистого дома и непорочной юности в самом центре злого мира», что для автора является не следствием «естественной природы», но — «нравственного и духовного усилия»26.
Предпосылки этого подхода, как и сама научная парадигма романтизма, уже вскоре были отвергнуты большинством специалистов27. В значительной мере это повлияло и на исторические исследования Галилеи во 2-й половине XIX в. (период «либерального (первого) поиска исторического Иисуса»). Интерес к религиозному миру Галилеи уменьшился, во многом, потому, что целью либеральных реконструкций жизни «исторического Иисуса» было опровержение выводов мифологической и тюбингенской28 школ протестантской экзегетики доказательством древности и достоверности документов, положенных в основу евангельских текстов29. Общей тенденцией этих работ становится стремление подчеркнуть особенность нравственной проповеди Иисуса, универсальной по сравнению с иудейским партикуляризмом, и отделить ее, таким образом, от иудейских корней. Кроме того, как показал Альберт Швейцер, подспудной целью многих таких исследований была апологетическая «модернизация» евангельского провозвестия (по сути, вкладывание в уста Иисуса религиозно- нравственных идеалов XIX в.)30. В конце концов, стала очевидной зависимость соответствующего результата от позиции ученых
Нужно сказать, что, несмотря на некоторое падение интереса к Галилее как контексту проповеди Иисуса, в работах рубежа веков, вопрос об этнической идентичности галилеян оставался в поле исторических дискуссий (например, в учении о расе П. де Лагарда и Х. С. Чемберлена 31 , обусловивших всплеск интереса к нему в Германии при национал-социализме). Два вышеназванных взгляда на Галилею I в. — (1) население Галилеи состояло в основном из язычников («Галилея языческая» 32 ) и (2) галилеяне были евреями, которые практиковали более простую форму иудаизма, чем в Иудее I в.) присутствовали в работах историков конца XIX–начала XX вв. (языческая Галилея со смешанным населением у Эмиля Шюрера, еврейская, например, у А. Бюхлера 33 ). Заметными исключениями на общем фоне снижения интенсивности исследований Галилеи стали книги Густава Дальмана и Иоахима Иеремиаса 34 , посвященные религиозному и культурному фону проповеди Христа, в том числе и галилейскому, которые, однако, не могли в целом изменить ситуацию.
«Галилея языческая»: Вальтер Бауэр, Георг Бертрам, Вальтер Грундман, Рудольф Отто
В работах представителей «школы истории религий» (кон. XIX – 20-30-е гг. XX в.) 35 , доминировавшей в немецкой протестантской науке, провозвестие Иисуса интерпретировалось в контексте понятий и представлений греко-римского мира и эллинизированного иудаизма I в. По убеждению библеистов этого направления, весть о спасении была слишком универсалистской и ее невозможно понять в иудейском контексте. «Естественным» культурным фоном для такого универсализма представлялась Галилея как языческая земля со смешанным населением.
Тезис об эллинизированной Галилее рубежа эр, сформулированный Вальтером Бауэром 36 и Георгом Бертрамом 37 , разделял целый ряд представителей немецкой новозаветной науки периода «германо-христианства» (с 30-х гг. по 45 г.) 38 , стремившихся дистанцировать Иисуса от иудаизма Его времени. Итогом этих исследований 39 часто рассматривают работу Вальтера Грундмана «Иисус Галилеянин и иудаизм» (1940) 40 .
Причины эллинизации и смешанности населения Галилеи в этих работах следующие.
-
1. Эллинизации должно было способствовать отсутствие здесь самих предпосылок для сопротивления чуждому культурному влиянию, так как с самых ранних этапов истории Древнего Израиля здесь не возникло замкнутой национально-религиозной общины, способной ему противосто-
- ять41. Причины этого — в истории: (1) несемитские племена (хетты, упоминаемые в амарнских письмах) жили в Ханаане уже XIV в. до Р.Х. и не были полностью вытеснены израильтянами, пришедшими в XIII в. до Р.Х. и заселившими лишь ее центральную горную часть42. (2) Несмотря на включение Галилеи в состав Единого царства Давида, уже при Соломоне часть ее городов отошла к финикийцам (1 Цар 9:11–12), и власть израильтян, как и почитание Яхве, здесь не утвердились43. (3) Процесс смешения должен был усилиться вследствие депортации населения Галилеи и ее колонизации после ассирийского завоевания 733/722 гг. Эта земля осталась практически без связи с Иерусалимом44, и в результате послеп-ленного восстановления общины, ограничившегося только Иудеей, положение дел в Галилее не изменилось, так как и до вавилонского плена она уже не была заселена евреями. Галиль хаг-гойим (Ис 8. 23 [9. 1]) был самым северным уделом Израильского царства. Сообщение хрониста (2 Пар 30. 10–11) о том, что при царе Езекии (VIII в.), сыны Ашера, Манассии и Завулона пришли в Иерусалим, — уже послепленное. Относя ко времени Езекии ситуацию своего времени (IV в. до Р. Х.), хронист косвенным образом свидетельствует, что какая-то часть населения этого региона все же была связана с иерусалимским культом. Став частью «царской» провинции Мегиддо, «землей царя» Галилея осталась и в дальнейшем вплоть до эллинистического времени; в это время неиудейское население увеличивалось за счет привлеченных из других земель семей управленцев, солдат и рабов45.
-
2. Одной из основных экономических причин эллинизации считалось развитие иностранного землевладения в Палестине, начиная со времени Птолемеев. Такой тип хозяйства упоминается, например, в папирусах Зенона 46 .
-
3. Быстрой эллинизации Галилеи должны были также способствовать: (1) ее географическая открытость (большая, чем у Иерусалима) по отношению к соседним территориям и, таким образом, ко всему греческому миру 48 , (2) строительство и развитие эллинистических городов в Палестине и Сирии (Баальбека, Пальмиры, Герасы), Кесарии Филипповой в Заиорданье (с ее святилищем Пана, нимфеумами), Кадеша, на границе Верхней Галилеи с языческими территориями, Птолемаиды (на побережье), городов Десяти-градия: Филотерии, Гиппоса, Гадары, Скифополя 49 .
-
4. Так как послепленное восстановление еврейской общины ограничилось в основном Иерусалимом и Иудеей, ко времени маккавейского восстания этнически население Галилеи было уже смешанным, при этом иудеи должны были составлять меньшинство 50 . События хасмонейского времени также имели своим итогом усиление влияния здесь греческой культуры. Считалось, что уже после эвакуации галилейских иудеев Симоном Маккавеем в 150 г. до Р.Х. (1 Макк 5:15, 23) Галилея могла стать чисто языческой 51 , хотя признавалось и то, что незначительный еврейский элемент здесь мог сохраниться 52 . В дальнейшем, после завоевания Галилеи и насильственной иудеизации ее населения при Аристобуле I (в кон. II–нач. I вв. до Р.Х.) 53 ,
-
5. К 37 г. до Р.Х. (началу правления Ирода Великого) Палестина была уже полностью эллинизированой. Галилею, однако, культурная политика Ирода почти не коснулась. Cообщается только о строительстве им дворца в Сепфорисе, но эллинизация, как считалось, затронула и другие большие поселения Галилеи: в сфере управления теперь «царит дух и право элли-низма» 58 . Носителями этой культуры в основном были управленцы и военные (греческие принципы организации и язык общения в армии) 59 . Импульсы новой политики исходили уже от двора Ирода (который поселил,
Изменения в политической системе при Селевкидах не должны были затронуть экономических отношений, сложившихся при египтянах, и роль виллы как центра эллинистического хозяйства сохранилась 47 .
несмотря на изгнание несогласных ассимилироваться, принципиально ситуация не могла измениться. В целом, эта политика здесь успеха не имела: правление Аристобула длилось лишь несколько месяцев, у Александра Янная также не было достаточно времени для решения этой проблемы, а о политике Александры (76–67 гг. до Р.Х.) в Галилее источники вообще ничего не сообщают, хотя предполагалось, что могли активизироваться фарисеи 54 . Для переселения сюда колонистов из Иудеи не было демографических предпосылок из-за огромных потерь населения (прежде всего среди ревностных иудеев) в ходе маккавейских войн 55 . Все это должно было привести к снижению иудейского присутствия в Галилее после войны и, как следствие, усилению преимущественно языческого населения городов (Самарии, Скифополя, Кесарии) 56 . Грундман, в итоге, приходит к заключению, что галилеяне, в I в. до Р.Х., стали иудеями только «по исповеданию» (konfessionell), но не этнически (völkisch) 57 . Иудаизм галилеян в их культуре — лишь поверхностный слой, привнесенный новыми властями.
например, своих ветеранов в Габе, что также вело к увеличению неиудейского компонента в населении 60 ). На всю Галилею она распространилась только при его сыне, тетрархе Антипе: восстановлен Сепфорис, позднее в честь императора построена новая столица Тивериада — эллинистический город с соответствующими административными институтами, с дворцом, украшенным изображениями животных, стадионом, синагогой, «построенной, насколько известно, в эллинистическом стиле» 61 .
Еще одну сторону «проблемы Галилеи» часто видели в особенностях языка ее жителей. По Грундману, эти особенности еще раз свидетельствуют о том, что галилеяне не были собственно семитами 62 . Ко времени Иисуса многие помимо отличающего их арамейского диалекта 63 говорили и по-гречески 64 . Важную роль в распространении греческого языка и эллинизации вообще здесь сыграли окружающие регионы, в том числе города Декаполиса; в самой же Галилее такими центрами стали Сепфорис и Тивериада 65 .
Все эти процессы и события во многом должны были определить религиозную жизнь в Галилее. Бауэр и другие авторы выделяли несколько ее ха-рактеристик66: (1) «тесная связь с язычниками» (местными и окрестными), отсутствие идеологических преград для контактов с неиудеями67 и «замкнутость по отношению к Иерусалиму и Иудее»68; (2) заметная свобода по отношению к предписаниям закона69 как следствие незначительного влияния в Галилее фарисеев и книжников70; доминирование религиозности зилотов (Грундман)71, ам-ха-арец («простонародья»)72, религиозных групп, типа «анавим» (нищих духом), носителей энохической традиции с центральным для нее представлением о пришествии Сына Человеческого73. Наконец (3), здесь отсутствовала заметная поддержка национально-политического иудейского мессианства (Бауэр)74.
Именно галилейским происхождением Иисуса Христа Бауэр объяснял в Его проповеди то, что он называет «синкретически облегченной формой» иудаизма, «обращенной ко всем людям»75. Готового присоединиться к Нему язычника Христос, подобно ап. Павлу, не отвергал невыполнимыми предписаниями закона. И в основном у галилеян Он нашел понимание; то, что «только теплилось у Его галилейских земляков в подсознании, Он развил и выразил, ясно противопоставив это пониманию религии, которое было в Иерусалиме»76 . Грундман также объяснял конфликт Иисуса (как представителя презираемого фарисея- ми ам-хаарец) с иудейскими религиозными партиями этим общим галилейским противостоянием с иерусалимским иудаизмом.
Пример объяснения особенностей проповеди Иисуса галилейским контекстом можно видеть также в работе Рудольфа Отто «Царство Божие и Сын человеческий» (1934) 77 , отправной точкой для которой стали выводы Бауэра. Именно смешением этно-религиозных традиций автор объясняет отличительную черту «галилейского благочестия» — «эсхатологию и апокалиптику». Тема приближения Царства Божия (центральная в провозвестии Иисуса), характерна для иудейской апокалиптики, но — уверен Отто, — по происхождению «она не чисто иудейская» 78 . Основные апокалиптические представления были восприняты иудейской религией в период вавилонского и персидского владычества, когда много иудеев жило в землях, где эти представления были рас-пространены 79 . В иудаизм они попали через энохическую традицию. Местом ее возникновения был «север Палестины», прежде всего Галилея 80 , связанная дорогами с Месопотамией и Сирией 81 . В проповеди о Царстве Божием Отто выделяет две «линии развития», связанные с Галилеей и энохической традицией, — «арийскую» и «израильско-иудейскую», причем некоторые темы провозвестия
Иисуса, по его мнению, во многом определили именно арийские дуалистические представления 82 .
Иудейские историки: Генрих Грец, Арман Каминка
Ряд еврейских историков считал, что жители Галилеи I в. были евреями, практиковавшими форму иудаизма более простую и менее строгую в исполнении закона, чем в иудаизме евреев Иудеи 83 . Бедные и менее образованные евреи Галилеи либо не могли себе позволить придерживаться законов ритуальной чистоты или просто не знали их. Известным сторонником этой точки зрения был А. Бюхлер, исследовавший раввинистическую традицию о галилеянах 84 .
Интерес к раннеримской Галилее очевиден у ряда иудейских историков XIX в., писавших о возникновении христианства. Успех провозвестия Иисуса уже на начальном этапе объяснялся здесь именно особенностями галилейских менталитета, культуры и религиозности по сравнению с иерусалимскими традициями. Генрих Грец, один из первых еврейских историков XIX в., высказывавших свое понимание места Иисуса Назарянина в истории иудаизма, объяснял ключевые темы провозвестия Иисуса Его укорененностью в полуязыческом, простонародном иудаизме Галилеи85 («по причине соседства с язычниками- сирийцами галилеяне склонны ко всякому суеверию»86). Иисус, в изображении Греца, — реформатор, служение которого нужно понимать в рамках ессейской аскетической традиции (близость к ней: в чудотворениях, экзорцизмах, пророческом самопонимании, критике богатства), при этом вопрос о присутствии ессеев в Галилее автором вообще не ставился87.
Еврейский историк Арманд Каминка 88 , также видевший причины отличий населения Галилеи в самой ее истории 89 , исследовал решение синедриона 90
избегать как «нечистой» «земли смешанного народа» (эрец ха’аммим), под которыми должны пониматься не языческие земли вообще, но прежде всего Гали-лея 91 . Именно она более других считалась языческой, после правления тетрарха Ирода Антипы еще более изолированная от иудейских территорий (Каминка цитирует здесь Германа Греца: «эти части (отложившиеся тетрархии — К.Н. ) настолько были отделены от тела государства, что относились к Иудее как к загранице» 92 ). Сам Иисус, согласно Каминке, по причине недостаточного знания закона, опровергал узконациональные представления о спасении и, поэтому, не принадлежит к иудейскому народу 93 .
«Галилея еврейская»: Альбрехт Альт
Важнейшими для последующих исследований истории Галилеи и, в частности, для вопроса о религиозной и этнической идентичности ее жителей стали работы немецкого протестантского библеиста-ветхозаветника и историка Палестины Альбрехта Альта 94 . Даже в ситуации национал-социалистического режима в Германии, когда «неиудейский характер» Галилеянина и эллинизация Галилеи многими считался доказанным, Альт стремился показать, что неиудейское население в Галилее никогда не преобладало, она всегда была заселена преимущественно израильтянами.
В одной из ранних своих статей о пророчестве Исаии (8:23–9:6) 95 Альт пришел к выводу, что выражение «Галилея языческая» в этом тексте указывает не на ограниченную территорию, которая впоследствии была идентифицирована как политическая Галилея, а на окружающие языческие народы, которым в будущем также уготовано спасение, о котором говорит пророчество.
В серии статей «Галилейские проблемы» Альт стремился обосновать тезис о непрерывном присутствии израильского населения в Галилее после ассирийского вторжения в VIII в. Уже здесь ясна совершенно иная позиция Альта в отношении культурно-религиозных связей времени Иисуса.
Как и другие ученые Альт видит причины возникновения религиозной и этнической идентичности жителей Галилеи в истории этой земли. Первоначальное значение названия «Галилея» — круг народов (Галил хаг-гойим, а Галилея — сокращение этого полного наименования). В XIII в. до Р.Х. это наименование обозначает различные политические образования в северозападной части Палестины: район от Бет-Шеана и Мегиддо до южных финикийских городов, в т.ч. Сидона 96 , доминирующую роль в нем некоторое время играл Хацор 97 .
Далее повторяются уже известные аргументы: (1) после кратковременного вхождения в царство Давида уже при Соломоне земля переходит под власть финикийцев (3 Цар 9:11–12); (2) при ассирийской власти входит в состав провинции Мегиддо 98 ; (3) в вавилонский период особых политических изменений здесь не происходило 99 .
Свой тезис о том, что большая часть немногочисленного населения Галилеи на всех этапах ее истории состояла из потомков северных израильтян, Альт основывает во многом на свидетельстве внебиблейского источника об ассирийском завоевании — фрагментах анналов Тиглатпаласара, где говорится, что царь увел из немногих галилейских мест по несколько сотен человек100. По его мнению, судя по числу депортантов, население не сильно пострадало. Альт вообще сомневается, что депортация в строгом смысле слова имела место, так как уводить было некого — своей аристократии в Галилее, в отличие от центральной части царства, практически не было. О переселении сюда другого населения источники не сообщают101.
В хасмонейское время положение не должно было измениться, хотя о внутренней ситуации в Галилее после ее завоевания при Аристовуле I (104/103 г. до Р.Х.) источники практически ничего не сообщают. Для политики этого времени характерны 2 черты, определенные девтерономическим идеалом: с одной стороны, разрушение эллинистических городов (Скифополя, Габы, Филотерии) и изгнание населения, несогласного ассимилироваться и оставшегося верными своей (греческой) религии, с другой — инкорпорация всего населения страны в иудейскую религиозную общину Иерусалима. После уничтожения и изгнания части населения ситуация, согласно Альту, в Галилее существенно меняется, однако, он не соглашается с выводами Бауэра, Хирша 102 , Грундмана 103 и Берт-рама 104 о том, что в хасмонейское (и позднее, в римское) время в Галилее преобладало неизраильское, сильно эллинизированное население.
Описанные в 1 Макк 5:14-23 военные действия, после которых иудеи были эвакуированы (и, как считалось, Галилея стала «свободной от иудеев»), по убеждению Альта, затронули только западную ее окраину и прибрежный район (упоминаются Птолемаида-Акко, Тир, Сидон и Арбатта — 1 Макк 5:15, 22, 55). О походе в собственно «внутреннюю» Галилею ничего не говорится 105 . Использованное в этом рассказе выражение «вся Галилея языческая» также не подтверждает гипотезу об эллинизированном населении региона — это не указание на языческое «по происхождению» население III-II вв. до Р.Х., а библицизм, аллюзия на пророчество Ис 8:23 (9:1), описывающее события VIII в. (и пророчество северным народам) 106 . Выражением «Галиль хаг-гойим» (в его значении «круг народов») автор Маккавейской книги подчеркивает языческое происхождение врагов иудейского меньшинства, живших только во вполне конкретном регионе (в области упомянутых прибрежных городов).
Убеждение в том, что в догреческий период в Галилее преобладало израильское население, молчание источников о каком-либо отличном от иерусалимского культе Яхве в Галилее, а также сам факт хасмонейской иудеизации, невозможной, если бы ситуация здесь была здесь иной, дает Альту основание для вывода о верности галилеян Иерусалимскому храму. В пользу этого, по его мнению, говорит и то, что действие указов Кира и Дария о восстановлении культовой общины иудеев распространялось, судя по всему, не только на Иудею и Самарию, но и на другие территории. Это подтверждается последовавшим интенсивным развитием иудейской диаспоры, ориентированной на Иерусалимский культ107.
В качестве еще одного аргумента против наличия предпосылок для существенной эллинизации региона Альт подчеркивает тот факт, что реурбанизация римского периода затронула только периферийные по отношению к Галилее города: Скифополь (где помимо вернувшейся языческой элиты была и большая иудейская община) 108 и Габа. Птолемаида (на западе), Гиппос и Гадара (на востоке) находились уже за пределами собственно Галилеи и не могли оказывать на нее существенного влиянии.
Об иудейской идентичности галилеян, по Альту, говорит их сопротивление попытке римлян выделить Галилею в качестве отдельной административной единицы с синедрионом в Сепфорисе109. Этот порядок галилеяне не признали и поддержали попытки представителей хасмонейской династии восстановить свою власть, продолжавшиеся и при Ироде Великом110. Верность галилеян хас-монейскому порядку Альт (против Грундмана и Хирша111) объясняется отсутствием среди них «заметного эллинистического элемента».
Далее, несмотря на то, что в источниках ничего не говорится о переселении в Галилею жителей других районов иродианского царства 112 , Альт считает, что оно вполне могло иметь место и привести к некоторому увеличению эллинизированного населения 113 . Но в основном сюда должны были переселяться жители Иудеи, связанной с Галилеей еще со времени существования единой культовой общины 114 .
Таким образом, языческого доминирования в Галилее не должно было возникнуть и в иродианский период. Стремление тетрарха Антипы получить в городах более однородное население, достигалось переселением сюда подданных из, в основном еврейских регионов тетрархии. И хотя привлекались и управленцы нееврейского происхождения, большая часть населения, и не толь- ко в сельских землях, была израильской115, а города не стали такими эллинистическими центрами, как Скифополь или Гадара, и не могли оказывать соответствующего влияния на окрестные территории.
Наконец, Иосиф Флавий в рассказе о восстании 66/67 г. ничего не говорит о подчинении сельского населения городам 116 , что, по Альту, также объясняется его верностью израильским религиозным традициям 117 .
В завершение обзора аргументации Альта, нужно отметить, что он не ставит прямо вопрос о Галилее как культурно-религиозном контексте проповеди Иисуса. В статье о «Местах служения Иисуса…» (1949) он отмечает, что вывод о существенном израильском или языческом населении Галилеи, «стал бы важной отправной точкой в решении проблемы личной принадлежности Иисуса по происхождению к той или иной части населения» 118 . Однако эта тема более не обсуждается, но сказанное не оставляет сомнения в том, что, по мнению автора, принадлежность Иисуса из Назарета к еврейскому народу невозможно оспаривать. Бауэр, Бертрам, Грундман и Хирш в этой статье не упоминаются.
***
Итак, в период интенсивных дискуссий 20–50-х гг. о религиозной ситуации в Галилее и социальном и культурном контексте проповеди Иисуса выделяются два конкурирующих образа Галилеи.
Она рассматривается как полуязыческая земля, что во многом определило и «универсалистскую» проповедь Иисуса. В пользу этого должны свидетельствовать исторические события119: (1) неполное завоевание территории древними израильтянами и следствие депортации и смешения после ассирийского завоевания, (2) последующее управление территорией имперскими администрациями (вавилонской, персидской, птолемеевской, селевкидской, римской); (3) географическая открытость и экономические связи (сеть дорог) Галилеи через морские порты практически со всем средиземноморским миром; (4) свидетель- ство автора 1-й Маккавейской книги об эвакуации евреев из Галилеи при Симоне Маккавее, после чего Галилея должна была стать «свободной от иудеев»; (5) отсутствие предпосылок для создания единой нации несмотря на насильственную иудеизацию при Аристобуле; (6) локализация здесь, наряду с влиянием эллинистической религиозности, традиций, связанных с именем Еноха. Все это позволяло исследователям делать вывод о складывании особых галилейских, полуязыческих религиозных традиций («синкретического иудаизма» у Бауэра, или поверхностного «этнического» у Грундмана), что нашло отражение в именовании этого региона «Галилея языческая».
Другая сторона отвергала вывод об особом неизраильском влиянии. Наоборот в галилеянах видели потомков древних израильтян, сохранивших свои религиозные традиции. Известные свидетельства источников позволяли сторонникам этой точки зрения делать выводы, что: (1) ассирийская депортация не была тотальной; (2) события маккавейской войны в Галилее происходили только на ее западных границах у прибрежных греческих городов; (3) никакого альтернативного иерусалимскому авторитетного иудейского культа в Галилее не было; (4) сопротивление галилеян власти Ирода можно объяснить их мотивацией — приверженностью иерусалимскому культу и хасмонейской династии. Оснований говорить о каком-то полуязыческом иудаизме галилеян их история также не дает.
Метод анализа форм и Второй поиск
Этапным во всей истории новозаветной библеистики, в том числе и в вопросе о галилейском контексте провозвестия Иисуса, стало развитие метода анализа форм (Formgeschichte/Formkritik, Р. Бультман, М. Дибелиус)120 . С 2030-х гг. XX в. климат для исследования исторического контекста проповеди Иисуса становится более неблагоприятным, по причине, как считалось, низкой исторической ценности источников (Евангелия — в основном мифологический и легендарный материал)121. Основной акцент в этих работах был смещен на реконструкцию провозвестия ранней Церкви и (с учетом аналогий из греко- римской литературы) его самых ранних устных и литературных форм122. Бульт-ман отверг всякую возможность исторической реконструкции обстоятельств земной жизни Иисуса и истории Его мессианского самопонимания, подчеркивая богословскую необоснованность таких исторических реконструкций как не соответствующих собственному предмету богословия123. Этим обусловлено и отсутствие у Бультмана и других представителей метода анализа форм интереса к миру, в котором Иисус проповедовал, и конкретно — к Галилее (у Бультмана искомый контекст — это история иудаизма от вавилонского плена до проповеди Иоанна Крестителя). Бультман ограничился изображением только провозвестия и отказался от изображения «психологического портрета» Иисуса, и тем самым — от всей традиции историографии XIX в., ориентированной на изображение «великих личностей, делающих историю»124.
Начало нового этапа в исследованиях этого направления («Второй (или новый) поиск исторического Иисуса»125) связано с именем ученика Бультмана Эрнста Кеземана, который обосновал необходимость возвращения в круг обсуждаемых вопрос о возможности исторически достоверной реконструкции обстоятельств земной жизни Иисуса126. Он считал, что, несмотря на все адапта- ции и редакции преданий, в Евангелиях сохранились подлинные слова и речения Иисуса и в распоряжении экзегетов есть средства их установить. В этом «втором поиске» вопрос о восстановлении хронологии служения Иисуса уже не ставился, но реконструировались его общие характеристики и отличительные черты. Был разработан «критерий несводимости» (Differenzkriterium), на основании которого исследователи стремились определить особенности содержания провозвестия Иисуса по отношению к религиозным представлениям иудаизма того времени, с одной стороны, и к тем, которые были созданы уже в первохристианской Церкви — с другой127. Аутентичный остаток — то, что отличало проповедь Иисуса от обеих религиозных традиций, — говорит скорее о богословском, а не историческом подходе, этим, возможно, объяснялось и отсутствие интереса к критическому диалогу с зарождавшейся в это время археологией Галилеи128. Точной географической или социальной локализации искомого материала особого внимания в данном подходе не уделялось. Что касается Галилеи, то в общем принималось положение о ее эллинизации и «смешанной расе галилеян»129.
Идея об эллинизации Галилеи и смешанности ее населения сохранилась и в работах создателей и сторонников еще одного направления новозаветной биб-леистики — метода анализа редакций (Redaktionsgeschichte)130. Ряд ученых (например, Э. Ломейер, В. Марксен, Р.Г. Лайтфут и Л.Э. Эллиот-Бинс) считал, что в текстах евангелистов (редактировавших предание в конкретных ситуациях их общин) Галилея должна рассматриваться уже не только как место проповеди Иисуса, но прежде всего как богословская конструкция, в которой отражена вера первых христиан, видевших в Галилее «землю спасения», место будущего откровения воскресшего Господа (ср.: Мк 14:28; 16:7). Считалось, что такое представление о Галилее отражало факт существования там христианских общин, состоявших из иудеев и язычников131.
В заключение, нужно отметить тот очевидный факт, что в описанной периодизации «поисков исторического Иисуса» в некоторых случаях нельзя провести точных границ 132 . Так, работы еврейских ученых (не разделяющих положений христианского богословия, лежащих в основе этих поисков) вряд ли можно отнести к какому-то определенному «поиску». Прежде чем перейти к описанию современного периода дискуссии христианских историков и библеистов, представляется нужным отдельно рассмотреть «галилейский аргумент» в работах иудейских авторов. Этапным событием в рассматриваемой истории стала работа иудейского исследователя Гезы Вермеша «Иисус иудей» 133 , обозначившая новый интерес к галилейскому контексту провозвестия Иисуса после «паузы» второго поиска.
Галилея — родина харизматического иудаизма: Геза Вермеш
«Галилейский аргумент» играет в книге Вермеша самую важную роль: в особенностях галилейского происхождения Иисуса автор стремится найти объяснение основным темам проповеди и событиям Его служения. Во многом это уже известный по прежним реконструкциям образ Галилеи, полученный на основании свидетельств раввинской литературы, Иосифа Флавия и Нового Завета. Богатая, густо населенная земля, с развитой сельской экономикой и торговлей, обеспечивала жителям в I в. независимость и относительное благополучие. В то же время, это «островок во враждебном море», окруженный языческими территориями, а иудеи здесь изначально представляют собой незначительное мень- шинство134. «Национализм»135 (учтен в реформе Габиния и в политике создания местной аристократии136) и бунтарский дух галилеян породили здесь движение зилотов137, оставивших о себе недобрую память: «имя «галилеянин» во всей Палестине I в. не было уже простым указанием на происхождение, но получило дополнительный отрицательный смысл»138. Для фарисеев и раввинов I – начала II вв. по Р.Х. галилеяне были невежественным в вопросах закона139 деревенским простонародьем со смешным говором140.
Этот «бэкграунд» Вермеш предлагает учитывать и при объяснении особенности евангельского образа Иисуса Христа. Мир Его проповеди — это мир сельской Галилеи; все образы и метафоры связаны именно с сельской жизнью141. Галилейским национализмом автор объясняет отвержение Иисусом язычников142, но не считает Его политическим революционером. Противостоя- ние Иисуса с фарисеями143 было неизбежным: как галилеянин, Он мог быть обвинен в нарушениях религиозных предписаний, поскольку Его окружали сборщики налогов и блудницы, Он приходил в дом к людям, не соблюдавшим заповедей о чистоте, не стремился избежать осквернения контактом с умершим. Ясно, что Вермеш воспроизводит во многом традиционную для иудейских историков аргументацию на основании раввинистической традиции о Галилее как сельской окраине, населенной необразованным простонародьем, националистическим и буйным. Этапной (маркирует начало нового интереса к Галилее) его книгу делает отказ от попыток сблизить Иисуса с известными иудейскими движениями: фарисеями, зилотами и ессеями, и предложение использовать в качестве объясняющего контекста традицию харизматического иудаизма, локализуемого им в Галилее.
Аналогии евангельским свидетельствам о чудотвореяниях и экзорциз-мах Вермеш видит в раввинских рассказах о харизматических проповедниках-хасидим, таких как Хони ха-Меагэль144, Ханина бен Доса145, Абба Хилкия, из- вестных в иудейских преданиях как чудотворцы. Сходства между ними, по Вер-мешу, невозможно объяснить случайной близостью и нужно говорить об общих корнях обоих движений. Иисус рассматривается им наиболее ярким примером этого раннего движения. Хасидим — «наследники древней пророческой традиции», «их сверхъестественные силы» также «объяснялись прямым отношением с Богом», а сами хасиды — «связующее звено между небом и землей, независимые от какого-либо институционального опосредующего элемента». Вспышке такого движения способствовала «религиозная атмосфера простой и сельской Галилеи», а успех этого движения объясняется «духовным пылом, определенным галилейским темпераментом, а также ‹…› народной памятью о ‹…› пророке и чудотворце Илии»146.
Основную проблему в реконструкции Вермеша критики видят в использовании им «галилейского аргумента». Его основной тезис об укорененности харизматиков-хасидим особенно в Галилее — не имеющее очевидных доказательств допущение. Из известных представителей этого направления галилейское происхождение засвидетельствовано только для Ханины бен Досы 147 , оно возможно для Аббы Хилкии. Центральная же фигура — Хони ха-Меагеля — в традиции связана исключительно с Иерусалимом 148 .
Не выдерживает критики и противопоставление Галилеи харизматиков-хасидим и Иерусалима/Иудеи книжников и фарисеев. Эти известные различия плюс факт галилейского происхождения Иисуса у Вермеша служат обоснованием для вывода о принадлежности Иисуса к галилейским харизматическим учителям, не следующим предписаниям закона (при этом вся евангельская традиция, противоречащая такому образу, отвергается как созданная в поздних христианских общинах). Это противопоставление невозможно теперь не только в свете введенных в оборот результатов раскопок, но и на основании, например, того факта, что еще до Иерусалима Иисус был отвергнут и в Галилее, даже подвергся здесь смертельной опасности (Мк 3:6; Лк 4:28–29).
Тезис об ограничении области присутствия фарисеев в это время только районом Иерусалима не получил признания 149 . То, что они, за единственным исключением 150 , в Галилее Иосифом более не упоминаются, не может служить аргументом (он вообще во многих случаях говорит о фарисеях не конкретно). Археологические данные по Галилее греко-римского времени свидетельствуют о наличии здесь религиозных практик, ориентированных на фарисейское благо-честие 151 .
«Третий поиск»
Усиление интереса к исследованию Галилеи, как необходимому для исторических реконструкций контексту, по времени совпадает с возникновением в 70–80-е гг. XX в. так называемого «Третьего поиска исторического Иисуса», методология которого существенным образом отличается от прежних подходов. Тексты источников изучаются уже не только историко-филологическими методами, но и заимствованными из социологии, сравнительной антропологии и культурологии152, а объектом изучения становится социальная история153 , обусловившая возникновение христианских общин. К основным социологическим вопросам относятся влияние урбанизации и политики тетрарха на сельские территории Галилеи и особенности ее культуры (степень эллинизации, распространение образования, религиозные традиции).
В отличие от «второго поиска» с его критерием несводимости (подлинный материал, восходящий к Самому Иисусу Христу, должен заметно отличаться от традиций современного Ему иудаизма) в «третьем поиске» принят «критерий подобия» 154: аутентичным может быть и то, что связывает Иисуса с иудаизмом. Но по сравнению с прежним подходом понимание иудаизма Второго храма в третьем поиске изменилось радикально: если во «втором» провозвестие Иисуса противопоставлялось прежде всего единому иудаизму закона, как исследователи его реконструировали по раввинистической традиции155, то в «третьем» подчеркивается содержательный плюрализм и региональные особенности иудаизма156: помимо собственно иудейского и самарянского, иногда выделяется еще галилейский (в нем дополнительно верхнегалилейский, нижнегалилейский и регион Тивериадского озера — подрегионы с их экологическими и человеческими особенностями выделяются еще древними письменными источниками, Иосифом и Мишной). Кроме этого, учитываются такие важные аспекты контекста, как социологические (альтернативы город-деревня или чужая власть и сельское население) и культурные особенности (степень эллинизации, образование, религиозные традиции) Галилеи. Галилейское происхождение Иисуса — исходная точка для такой конкретизации157. Однако понимание этого и в третьем поиске произошло не сразу. Так, в качестве схематической гипотезы можно выделить две тенденции в исследованиях 80–90-х гг.: с одной стороны пренебрежение археологическим аргументом (например, Ф. Даунинг, Б. Мэк), с другой —ограниченность аргументации от археологии рамками принятой социологической модели (Дж. Д. Кроссан, В. Арнал, возможно Ф. Даунинг). Эти вопросы предполагается рассмотреть в следующей статье, посвященной роли современной археологии Галилеи в реконструкции социального и религиозного контекста проповеди Иисуса Христа.
Список литературы Проблема Галилеи раннеримского времени как культурного и политического контекста провозвестия Иисуса Христа (по материалам западной историографии XIX–XX вв.)
- Alt A. Jesaja 8, 23-9, 6: Befreiungsnacht und Krӧnungstag//Festschrift Alfred Bertholet zum 80. Geburtstag gewidmet/Hrsg. W. Baumgartner. Tübingen, 1950. S. 20-49 (=Idem. Kleine Schriften zur Geschichte des Volkes Israel. München, 1953. Bd. 2. S. 206-225);
- Alt A. Galiläische Probleme//Palästinajahrbuch des Deutschen Evangelischen Instituts für Altertumswissenschaft des Heiligen Landes zu Jerusalem. 1937. Bd. 33. S. 52-88; 1938. Bd. 34. S. 80-93; 1939. Bd. 35. S. 64-82; 1940. Bd. 36. S. 78-92; статьи переизданы в Idem. Kleine Schriften zur Geschichte des Volkes Israel. Bd. 2. München, 1953. S. 363-435;
- Alt A. Die Stätten des Wirkens Jesu in Galiläa territorialgeschichtlich betrachtet//Beiträge zur biblischen Landes-und Altertumskunde. 1949. Bd. 68. S. 51-72 (=Idem. Kleine Schriften zur Geschichte des Volkes Israel. München, 1959. Bd. 2. S. 436-455;
- Bauer W. Jesus der Galiläer//Festgabe für Adolf Jülicher zum 70. Geburtstag. Tübingen, 1927. S. 16-34 = Idem. Aufsätze und kleine Schriften/Hrsg. G. Strecker. Tübingen, 1967. S. 91-108;
- Bertram G. Der Hellenismus in der Urheimat des Evangeliums//Archiv für Religionswissenschaft. 1935. Bd. 32. S. 265-281;
- Bultmann R. Jesus. Berlin, 1926; Tübingen, 1964 (русский перевод: Бультман Р. Иисус. М., 1992);
- Case Sh.-J. Jesus and Sepphoris//Journal of Biblical Literature. 1926. Vol. 45. P. 14-22;
- Chancey M.A. The Myth of a Gentile Galilee. Cambridge, 2002;
- Dalman G. Orte und Wege Jesu: Arbeit und Sitte in Palästina. Gütersloh, 1919;
- Deines R. Jesus der Galiläer: Traditionsgeschichte und Genese eines antisemitischen Konstrukts bei W. Grundmann//Walter Grundmann: Ein Neutestamentler im Dritten Reich/Hrsg. R. Deines, V. Leppin, K.-W. Niebuhr. Leipzig, 2007. S. 43-131;
- Deines R. Galiläer und Jesus: Anfragen zur Funktion der Herkunftsbezeichnung «Galiläer» in der neueren Jesusforschung//Jesus und die Archäologie Galiläas/Hrsg. Carsten Claussen. Neukirchen-Vlujn, 2008. S. 271-320;
- Freyne S. Galilee from Alexander the Great to Hadrian, 323 B. C.E to 135 CE: A Study of Second Temple Judaism. Wilmington, 1980;
- Gretz H. Geschichte der Juden: Von den ältesten Zeiten bis auf die Gegenwart. Leipzig, 19055. Bd. 3 (русский перевод: Грец Г. История евреев от древнейших времен до настоящего. Одесса, 1907. Т. 4);
- Grundmann W. Jesus der Galiläer und das Judentum. Leipzig, 1940, 1941;
- Heschel S. Nazifying Christian Theology: W. Grundmann and the Institute for the Study and Eradication of Jewish Influence on German Church Life//Church History. 1994. Vol. 63. P. 587-605;
- Heschel S. Theologen für Hitler: W. Grundmann und das «Institut zur Erforschung und Beseitigung des Jüdischen Einflusses auf das deutsche kirchliche Leben»//Christlicher Antijudaismus und Antisemitismus: Theologische und kirchliche Programme Deutscher Christen/Hrsg. L. Siegele-Wenschkewitz. Frankfurt am Main, 1994. S. 125-170;
- Hirsch E. Das Wesen des Christentums. Weimar, 1939;
- Kaminka A. Studien zur Geschichte Galiläas. Berlin, 1889;
- Klein S. Galiläa von der Makkabäerzeit bis 67. Wien/Berlin, 1928;
- Klausner J. Jesus of Nazareth: His Life, Times, and Teaching. New York, 1926;
- Lohmeyer E. Galiläa und Jerusalem. Gӧttingen,1936;
- Lubinetzki V. Von der Knechtsgestalt des Neuen Testaments Beobachtungen zu seiner Verwendung und Auslegung in Deutschland vor dem sowie im Kontext des Dritten Reichs. Leipzig, 2000;
- Masterman E.W.G. Studies in Galilee. Chicago, 1909;
- Moxnes H. The Construction of Galilee as a Place for the Historical Jesus: P Part 1//Biblical Theology Bulletin. 2001. Vol. 31. N 1. P. 26-37;
- Moxnes H. The Construction of Galilee as a Place for the Historical Jesus: Part 2//Biblical Theology Bulletin. 2001. Vol. 31. N 2. P. 64-77;
- Moxnes H. George Adam Smith and the Moral Geography of Galilee//A Wandering Galilean: Essays in Honour of Seбn Freyne. Leiden, 2009. P. 237-256;
- Otto R. Reich Gottes und Menschensohn. München, 1934;
- Reed J.L. Archaeology and the Galilean Jesus: A Re-Examination of the Evidence. Harrisburg (Penn.), 2000;
- Schürer E. Geschichte des jüdischen Volkes im Zeitalter Jesu Christi. Bd. 1. Leipzig, 1901; Bd. 2. Leipzig, 1907;
- Vermes G. Jesus the Jew: A Historian’s Reading of the Gospels. London, 1972, 1983;
- Wilson Ch. The Sea of Galilee//The Recovery of Jerusalem/Ed. W. Morrison. London, 1871. P. 337-387;
- Gospel Images of Jesus Christ in Church Tradition and in Biblical Scholarship: Fifth International East-West Symposium of New Testament Scholars, Minsk, September 2 to 9, 2010/Ed. Chr. Karakolis, K.-W. Niebuhr, S. Rogalsky. Tübingen, 2012.
- Лёзов С.В. История и герменевтика в изучении Нового Завета//Лёзов С.В. Попытка понимания: Избранные работы. М.; СПб., 1999. С. 353-563;
- Райт Н.Т. Иисус и победа Бога. М., 2004;
- Ренан Э. Жизнь Иисуса. М., 1991;
- Штраус Д.Ф. Жизнь Иисуса. М., 1992.
- Ястребов Г.Г. «Третий поиск исторического Иисуса»: кризис критериев достоверности//Страницы: Богословие. Культура. Образование. 2012. М., 2012. Т. 16. Вып. 4/2012. С. 494-503.