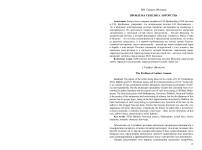Проблема генезиса авторства
Автор: Пешков Игорь Валентинович
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Теория литературы
Статья в выпуске: 2 (41), 2017 года.
Бесплатный доступ
Автор статьи, опираясь на работы О.М. Фрейденберг, М.М. Бахтина и С.Н. Бройтмана, утверждает, что историческая поэтика А.Н. Веселовского - это в принципе доисторическая поэтика, адекватно построенная на схематизме и повторяемости. Но архетипизм сюжетов постоянно преодолевается авторской литературой, и типичный случай такого преодоления - Уильям Шекспир. Та историческая поэтика, в которой фигурируют Шекспир, Сервантес, Рабле, Стерн и Пушкин - это поэтика неповторимости и преодоления схематизма, но логика ее развития существует, и в первом приближении эту логику описал Бахтин: основной инструмент такого преодоления - всякий раз новое изобретение героя в борьбе с ним автора. Поэтика становится исторической с того момента, как появилась сама история и, в частности, история авторства: лирический герой, характер классический, характер романтический, герой-тип - вот вехи этой новой, авторской истории, определенные М.М. Бахтиным.
М.м. бахтин, историческая поэтика, шекспир, лирический герой, характер классический, характер романтический, герой-тип
Короткий адрес: https://sciup.org/14914616
IDR: 14914616
Текст научной статьи Проблема генезиса авторства
Абсолютно не случайно история античной литературы начинается с гомеровского вопроса: отделен ли автор античного эпоса как человек-творец? И отделен ли от других сказителей-аэдов? Само существование этого вопроса есть презумпция эпического личного неавторства или констатация доминирования в древнегреческом эпосе «авторства» коллективного.
Однако рассмотрим этот период становления несколько подробнее, хотя и все-таки с чисто теоретической точки зрения. Возможность такого рассмотрения утверждается в статье С.Н. Бройтмана «Наследие М.М. Бахтина и историческая поэтика»: «субъектная сфера художественного произведения - отношения между “я” и “другим”, автором и героем, - может претендовать на то, чтобы быть “личностным ядром” исторической поэтики»1.
Таким образом, мы можем к предыстории литературы приложить феноменологический аппарат анализа авторства, введенный М.М. Бахтиным, которого С.Н. Бройтман видит в этой области продолжателем А.Н. Веселовского. Последний писал:
«Эпос - объект, лирика - субъект; лирика - выражение зарождающегося субъективизма. На эти определения я уже успел возразить; если б я захотел присоединить к ним и свое, я подчеркнул бы субъективизм эпоса, именно коллективный субъективизм; я говорю о началах эпоса. Человек живет в родовой, племенной связи и уясняет себя сам, проецируясь в окружающий его объективный мир, в явления человеческой жизни. <...> Каждый видный факт в такой среде вызовет оценку, в которой сойдется большинство; песня будет коллективно субъективным самоопределением, родовым, племенным, дружинным, народным; в него входит и личность певца, т.е. того, чья песня понравилась, пригодилась. Он анонимен, но только потому, что его песню подхватила масса, а у него нет сознания личного авторства. <...> Личность еще не выделилась из массы, не стала объектом самой себе и не зовет к самонаблюдению. И ее эмоциональность коллективная: хоровые клики, возгласы радости и печали, и эротического возбуждения в обрядовом действе или весеннем хороводе»2.
С.Н. Бройтман делает вывод, что «Веселовский рассматривает хор как безличного автора, постепенно выделявшего из себя автора личного и в этом процессе рождающего художественные формы», хотя «в эксплицитной форме проблема автора и героя в архаическом и современном искусстве основателем исторической поэтики не ставилась»3. Более прямое обращение к «авторско-геройным ипостасям хора» обнаруживается в трудах О.М. Фрейденберг и М.М. Бахтина. Их подходы к проблеме различаются: «Если для Веселовского центральным было соотношение в исходном синкретизме личного и хорового начал, то для Фрейденберг ключевым оказывается отношение субъекта к объекту, а для Бахтина -«я» к «другому». Акцентирование разных аспектов - субьект-обьектного и субьект-субьектного - обусловило различие, а во многом и дополнительность полученных результатов»4. Однако С.Н. Бройтман отлично видит, что этой дифференциации недостаточно, т.к. у Веселовского в принципе также описаны субьект-субьектные отношения. Поэтому следует уточнение:
«Подчеркивая, как и Веселовский, невыделенность архаического человека из социума и природы, Фрейденберг видела внутренний и сущностный коррелят этого в том, что он не отделял субъект от объекта и не дифференцировал связанные с этим активный и пассивный статусы. Такая структура сознания 22
отразилась, по Фрейденберг, в одной из первичных форм словесного творчества -в рассказе-мифе. В нем “сам рассказчик идентичен своему рассказу”5: в субъектном (активном) аспекте он - “автор”, или, что то же, - действующий бог; в объектном (пассивном) аспекте - он “герой”, или бог претерпевающий, хотя оба этих аспекта в рассказе-мифе еще не существуют раздельно»6.
И именно потому, что субъект и объект не разделяются (а речь в данном случае у Фрейденберг идет о греческом романе), мы бы везде говорили о пассивном состоянии этого «авторства», кроме того, понятие «автор» действительно нужно брать в кавычки, и не только потому, что это цитата. Перед нами то, что в европейской истории когда-нибудь будет автором, и мы знаем об этом, но культура античности еще автора не знает, как не знает и личности, хотя бесспорно личность автора уже понемногу рождалась (Фрейденберг здесь очень точно выбирает глагол несовершенного вида):
«Такая неповторимая вещь, как верность античных авторов жанровым структурам и всей фольклорной традиции, говорит о том, что личность античного автора рождалась в недрах самой этой традиции, еще не противореча ей. Конечно, там, где царит одна стихийность, где господство традиционности безраздельно, искусства еще нет. Искусство требует замысла цели, личного отношения к материалу. Сейчас никто не понимает коллективности в виде хорового начала -народ-де поет совокупно, всем миром. Авторство, разумеется, всегда сольное, чтоб не сказать “индивидуальное”. Но суть вся в том, что такая индивидуальность или сольность полностью совпадает с коллективом. Поэтому безразлично, каково имя или лицо того, кто первый сочинил песню. Вся ее фактура традиционна, все отношение к ней коллективистично. Никаких личных отклонений (“оригинальности”) в ней нет. И недаром вокруг Гомера шел спор племен: эпос в сущности не имеет племенной “пра-родины”, потому что он складывается многими племенами, на многих родинах тысячелетиями. Пока нет объединения племен, нет и эпоса, а есть отдельные песни об отдельных героях»7.
Причем слово «герой» здесь явно не в бахтинском смысле, дополнительном автору, а в фольклорном, как некий коллективный «богатырь», некто нечто совершивший и посмертно прославленный в песне. Хотя Бройтман и предполагает, что дихотомию Бахтина автор / герой можно приложить еще к доличным формам «авторства», сам Бахтин, по крайней мере изначально, явно мыслил ее для развитых форм авторства, но и отсюда не следует, что нужно отказаться от идеи Бройтмана рассматривать Бахтина как прямого продолжателя исторической поэтики Веселовского. Напротив, вспомним, что «Веселовский остановился на пороге литературы Нового времени; ядро его исторической поэтики -теория первобытного синкретизма родов и видов словесности в границах архаического обрядового комплекса. Даже поэтика средневековой литературы с ее “эпическим коллективизмом” намечена лишь редким пунктиром»8.
А Бахтин начинает именно с этого порога в работе «Автор и герой...».
В структуре этой работы после трех теоретико-феноменологических частей следует раздел «Смысловое целое героя», который при всей своей внешней типологической направленности (архитектоническая форма художественного видения «бывает не только пространственной и временной, но и смысловой»9, типологии этих смысловых форм и посвящен раздел) вполне может быть прочитан историко-теоретически.
Так, самоотчет-исповедь, сохраняя своевсеобщеезначение, соотносится с древнейшим религиозным предхристианским и христианским сознанием. Бахтин упоминает псалом Давида, исповедь Августина, комментарий к Песни песней Бернарда Клервоского. В результате стадиально авторство находится на уровне ноля: «в самоотчете-исповеди нет героя и нет автора, ибо нет позиции для осуществления их взаимодействия»10.
Далее Бахтин рассматривает (авто)биографию и сразу располагает ее исторически: «внутренне противоречивые, переходные формы от самоотчета-исповедикавтобиографиипоявляютсянаисходеСреднихвеков, которые не знали биографических ценностей, и в раннем Возрождении. <.. > Биографическая ценностная установка по отношению к своей жизни побеждает исповедальную у Петрарки, хотя и не без борьбы»11. Вслед за Петраркой упоминается Боккаччо. Говоря о двух типах «биографического ценностного сознания и оформления жизни», Бахтин называет «первый тип авантюрно-героическим (эпоха Возрождения, эпоха “Бури и натиска”, ницшеанство), второй - социально-бытовым (сентиментализм, отчасти реализм)»12. «Биография - органический продукт органических эпох»13. «Биография - это не произведение, а эстетизированный, органический и наивный поступок в принципиально открытом, но органически себе довлеющем ближайшем ценностно-авторитетном мире»14.
Итак, мы видим, что уже конец Средних веков (Возрождение), а по-настоящему автора все еще нет. Автор как таковой появляется только вместе с лирическим героем. Это единственный случай в типологии Бахтина с очень широкой исторической валентностью, хотя нельзя сказать, что он совсем не укоренен исторически. Например, в лирике, по Бахтину, «авторитет автора есть авторитет хора. Лирическая одержимость в основе своей - хоровая одержимость»15. И Бройтман не без оснований связал этот хор с тем самым хором, с которого начинает Веселовский и о котором говорит О.М. Фрейденберг. Но поскольку мы знаем о «хоровой поддержке» и из других работ Бахтина, особенно медведевско-волошиновского цикла16, то не имеется оснований непременно специализировать этот хор в первобытном синкретизме, хотя и нет запрета на такую частную специализацию. Однако с таким же успехом можно укоренить эту теоретико-феноменологическую установку и в раннем Возрождении, например в отношении того же Петрарки или Данте. Так или иначе, но в лирике «позиция автора сильна и авторитетна, самостоятельность же героя и его жизненной направленности минимальна, он почти не живет, а только отражается в душе активного автора»17.
Далее Бахтин рассматривает характер как «форму взаимоотношения героя и автора», где целое героя впервые является художественным 24
заданием. Это означает, что даже в лирике героя как принципиально смыслового целого еще нет. А характер как раз и имеет задание «создать целое героя как определенной личности»18- и это задание снова выполняется уже во вполне определенных рамках истории литературы, «в двух основных направлениях. Первое мы назовем классическим построением характера, второе - романтическим»19. Тут уже связь с литературными направлениями - классицизмом (с категорией судьбы) и романтизмом (с его бесконечным героем) - очевидна.
Так же очевидна связь с реализмом (и добавим от себя, натурализмом) репрезентации героя как типа, что составляет пятую ступень бахтинской классификации смыслового целого героя.
Кроме этих пяти случаев (исповедь, биография, лирика, характер и тип) отношений героя и автора, случаев расположенных в принципе исторически линейно, Бахтин еще приводит случай жития, который как бы принципиально вне истории и развития: «отказ от существенности своей позиции вненаходимости святому и смирение до чистой традиционности <.. > характерны для автора жития»20. Это как бы исповедь наоборот. Там, при первичном самоотчете исповеди поступающего человека, автор еще не выделился, а здесь уже смирился до отказа от самой по себе позиции автора.
Теперь вернемся к тому, на чем остановился А.Н. Веселовский. Он «был убежден, что произведения, в которых доминирует индивидуальнотворческое начало (или, как он говорил, “личный почин”) при выборе определенного последовательного ракурса можно изучать так же, как памятники эпох нерасчлененного и синкретического творчества, раскрывая в них явления “всеобщего схематизма и повторяемости” (что является привилегированным планом исторической поэтики)»21. Однако у самого Веселовского это не получилось. М.Л. Андреев, и небезосновательно, считает, что это удалось Е.М. Мелетинскому. Однако, как настаивал С.Н. Бройтман, другую версию развития исторической поэтики предложил М.М. Бахтин. По нашему мнению, для литературы «личного почина», точнее говоря, собственно авторской художественной литературы, критерии - для определения признаков методологического схематизма и повторяемости - на первый план должны выйти другие, а именно те, что предложил Бахтин в своем «Авторе и герое».
Архетипизм сюжетов, виртуозно построенный Мелетинским22, постоянно преодолевается авторской литературой, и типичный случай такого преодоления - Шекспир23. А основной инструмент - всякий раз новое изобретение героя в борьбе с ним автора. Это не значит, что история поэтики прекратила течение свое, нет, поэтика именно стала исторической с того момента, как появилась сама история и, в частности, история авторства: лирический герой, характер классический, характер романтический, герой-тип - вот вехи этой новой истории или истории как таковой. То, что делал Веселовский, историей не назовешь, это предыстория, доистория, древность - можно назвать как угодно. Историческая поэтика Веселовского -это доисторическая поэтика, адекватно построенная на схематизме и повторяемости. Историческая поэтика (в которой фигурируют Шекспир, Сервантес, Рабле, Стерн и Пушкин) - это поэтика неповторимости и преодоления схематизма, но своя логика развития этой поэтики существует, и в первом приближении эту логику описал Бахтин.
Мы здесь не можем подробно останавливаться на всех компонентах исторической поэтики бахтинского извода, наша задача показать исходный момент этой поэтики - момент зарождения ключевого компонента (авторства). Уже по вышеописанным бахтинским вехам мы видим, что он типологически пролегает где-то между лирическим героем и характером, а это именно момент творчества Шекспира, великого лирика и одновременно творца великих героев-характеров, т.н. «вечных образов».
Список литературы Проблема генезиса авторства
- Бройтман С.Н. Наследие М.М. Бахтина и историческая поэтика//Диалог. Карнавал. Хронотоп. 1998. № 4. С. 22.
- Веселовский А.Н. Синкретизм древнейшей поэзии и начала дифференциации поэтических родов//Веселовский А.Н. Избранное: историческая поэтика. СПб., 2011. С. 241.
- Фрейденберг О.М. Миф и литература древности. М., 1998. С. 267.
- Андреев М.Л. Не опуская глаз перед Хаосом//Новое литературное обозрение, 2006. № 1 (77). С. 111.
- Бахтин М.М. Автор и герой в эстетической деятельности//Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. М., 1979. С. 121.
- Мелетинский Е.М. О литературных архетипах. М., 1994.
- Пешков И.В. Шекспир как теоретик комедии и перипетии классического жанра//Новое литературное обозрение. 2014. № 6 (130). С. 351-359.