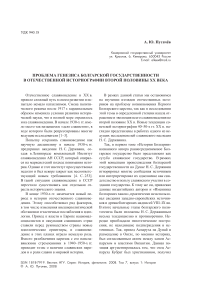Проблема генезиса болгарской государственности в отечественной историографии второй половины XX века
Автор: Пугачв А.Ю.
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Сообщения
Статья в выпуске: 1 т.7, 2008 года.
Бесплатный доступ
Короткий адрес: https://sciup.org/14736912
IDR: 14736912 | УДК: 940.18
Текст обзорной статьи Проблема генезиса болгарской государственности в отечественной историографии второй половины XX века
Отечественное славяноведение в XX в. прошло сложный путь в своем развитии и испытало немало катаклизмов. Смена политического режима после 1917 г. кардинальным образом изменила условия развития исторической науки, что в полной мере отразилось и на славяноведении. В начале 1930-х гг. имело место так называемое «дело славистов», в ходе которого были репрессированы многие ведущие исследователи [1–3].
Попытку сохранить славяноведение как научную дисциплину в начале 1930-х гг. предпринял академик Н. С. Державин, создав в Ленинграде комплексный Институт славяноведения АН СССР, который опирался на марксистский подход понимания истории. Однако и этот институт просуществовал недолго и был вскоре закрыт как несоответствующий новым требованиям [4. C. 253]. В такой ситуации славяноведение в СССР перестало существовать как отдельная отрасль исторического знания.
В конце 1930-х гг. намечается новый период в истории отечественного славяноведения. Этому способствовал ряд факторов, в том числе изменения внешнеполитической обстановки и частичные послабления в идеологии. Приход к власти в Европе национал-социалистов и оккупация славянских стран ставили перед руководством страны новые идеологические ориентиры, и славяноведение в этих планах играло немалую роль. Вместо разоблачения царизма с его панславянскими стремлениями в 1940–1950-х гг. приходит тезис о величии славянских народов и о роли славян в мировой истории.
В рамках данной статьи мы остановимся на изучении взглядов отечественных историков на проблему возникновения Первого Болгарского царства, так как в исследовании этой темы в определенной степени нашла отражение и эволюция всего славяноведения во второй половине XX в. Новые тенденции советской историографии 40–50-х гг. XX в. наглядно представлены в работах одного из ведущих исследователей славянского наследия Н. С. Державина.
Так, в первом томе «Истории Болгарии» названного автора раннесредневековое Болгарское государство было представлено как сугубо славянское государство. В рамках этой концепции происхождения болгарской государственности на Дунае Н. С. Державин игнорировал многие сообщения источников или интерпретировал их однозначно как свидетельство в пользу славянского участия в создании государства. К тому же он, привлекая данные византийских авторов и «Именника болгарских ханов», практически не использовал сведения западно-европейских источников и древнеболгарских надписей VIII–IX вв. В итоге начальные этапы болгарского поли-тогенеза были изложены Н. С. Державиным весьма тенденциозно и противоречиво. Нередко преобладали гипотетические построения, не находившие подтверждения в источниках. Так, приход Аспаруха на Дунай и размещение в Онгле, по мнению историка, был согласованным актом между ханом Ас-парухом и властями Византии. Данная позиция аргументировалась тем, что отец Ас-паруха Кубрат был христианином, получил
ISSN 1818-7919. Вестник НГУ. Серия: История, филология. 2008. Том 7, выпуск 1: История © А. Ю. Пугачев, 2008
воспитание в Византии и всегда поддерживал с империей дружественные отношения [5. C. 186–187].
Кроме того, Н. С. Державин считал, что Аспарух привел с собой только дружину и исключал «всякую возможность говорить о народе» [Там же. C. 186–190]. Бросив «податное население» в Приазовье, эта дружина, по утверждению исследователя, не могла рассчитывать на богатую добычу и на территории империи. Поэтому миграцию Аспа-руха Н. С. Державин объяснял фактом предварительной договоренности между Аспа-рухом и властями империи, или между Ас-парухом и славянскими племенами [Там же. C. 191]. Дружина Аспаруха, по его мнению, уже во многом была славянской: «…с частью именно этой дружины, усиленной, вероятно свежими значительным славянским пополнением на северо-востоке от Дуная, Аспарух и явился на полуостров» [Там же. C. 190].
Причины конфликта между болгарами Аспаруха и Византийской империи Н. С. Державин видел в том, что Аспарух решил воспользоваться трудностями Византии в Италии и очередным нашествием арабов с целью расширения территории, предоставленной Аспаруху на поселение [Там же. C. 189]. Именно поэтому в 679 г. имперское правительство организует рейд против болгар Аспаруха, но терпит несколько сокрушительных поражений и под давлением болгар заключает с Аспарухом мирное соглашение о признании нового государства и выплате ежегодной дани [Там же]. Таким образом, по мнению Н. С. Державина, было политически оформлено славянское государство – Первое болгарское царство.
Подводя итоги изучению событий, связанных с миграцией болгар Аспаруха, Н. С. Державин высказал предположение о том, что тюрко-болгары были приглашены славянскими вождями. Он исходил их того, что государство и классовое общество у славян Нижнего Подунавья сформировалось еще до появления тюрко-болгар. Он писал по этому поводу: «В жизни славянского общества на полуострове это был, несомненно, момент уже сложившегося перерастания союза племен в народ и государство, что стояло в тесной связи с наличием уже сложившихся здесь к тому времени в недрах местного славянского союзно-пле- менного общества соответственных социальных предпосылок в виде роста частной собственности и значительного классового расслоения» [Там же. C. 191]. Таким образом, тюрко-болгары Аспаруха были лишь приглашенной военной силой для обеспечения славянских интересов на Балканах. Из всего этого Н. С. Державин делает вывод, что «не Аспарух со своею пестрой по национальному составу дружиной явился создателем первого славянского государства на полуострове, а местное славянское общество, то есть сам славянский народ» [Там же. C. 192]. Таким образом, Н. С. Державин начинает историю государственности болгар практически с середины VII в. и считает, что в основе государственной системы лежали славянские политические институты.
Названный автор считал незначительной роль тюрко-болгар и в последующем развитии болгарской государственности. Тот факт, что управленческие функции в Дунайской Болгарии находились в руках тюрко-болгар, Н. С. Державин объяснял узурпацией власти тюрко-болгарской элитой в контексте классовой теории: «Аспарух был приглашен… в качестве военного агента и военной силы, что совершенно естественно и неминуемо для классового общества». Это в свою очередь привело «к узурпации Аспарухом и его дворянством политической власти и к засилью над местной славянской племенной знатью» [Там же]. С этих же позиций Н. С. Державин характеризовал и последующие события болгарской истории в раннее Средневековье и роль в них тюрко-болгарского «элемента» [6. C. 5]. Таким образом, в трудах академика Н. С. Державина была сформулирована концепция преимущественно славянского происхождения Болгарского государства. В рамках этой концепции тюрко-болгарское участие в процессах становления болгарской государственности на Дунае расценивалось как второстепенное и ограничивающееся лишь политической сферой.
В качестве еще одной важной работы того времени мы можем выделить статью С. А. Никитина в «Вестнике МГУ», опубликованную в 1952 г. [7]. Эта работа важна тем, что материалы, изложенные в ней, легли в основу раздела о становлении Болгарского государства в первом томе академической «Истории Болгарии», изданной в 1957 г.
В данной работе С. А. Никитин начинает рассмотрение процесса формирования болгарского народа и государственности с приходом славян на Балканы. Опираясь на марксистский подход к пониманию истории, С. А. Никитин приходит к выводу, что формирование раннефеодального государства у славян начинается в VII в. Он пишет по этому поводу: «Можно смело говорить, что сложение государства у северо-восточной части балканских славян уже началось в VII веке» [7. C. 131].
Анализируя миграционные процессы на Балканах в начале раннего Средневековья, С. А. Никитин замечает, что в VI–VII вв. у славянских племен, участвовавших в миграционных процессах на Балканах, наблюдаются «временные» межплеменные объединения, выступающие как средство защиты или захвата окраинных районов империи [Там же. C. 143]. Особо С. А. Никитиным отмечается «союз семи племен» или «семи родов». Как считает исследователь, это племенное образование выступает в VII в. уже как зарождающееся раннефеодальное государство. Он отмечает: «Прочное объединение семи мизийских племен представляло собой слагавшееся славянское государство» [Там же]. Для большей убедительности данного тезиса названный автор обращается к византийским источникам и пишет «что и в момент, когда самостоятельное развитие этого политического объединения было нарушено, оно выступает как твердое и прочное единство, это говорит о том, что это больше, чем всегда, непрочный и временный союз племен» [Там же. C. 145].
В русле марксисткой теории политогенеза С. А. Никитин обращается к рассмотрению социально-экономических факторов, влиявших на формирование Болгарского государства. Опираясь на немногочисленные письменные источники и данные археологии, С. А. Никитин приходит к выводу, что «именно выраставшие из недр общества земледельческие элементы были господствующими в этом политическом образовании. Можно также утверждать, что в основе производства этого объединения семи племен лежал труд свободного крестьянина общинника, однако уже систематически закрепощаемого растущим и усиливающимся землевладельцем» [Там же. C. 143]. Ученый указывает, что этот политических союз «семи родов» следует рассматривать в одном ряду с другими раннефеодальными государствами Европы.
Как отмечает С. А. Никитин, «раннесредневековое “варварское” государство, с обозначившейся внутри его тенденцией развития в направлении феодализации сложилось у славян, поселившихся в Болгарии, уже в этот ранний период их оседлости на Балканском полуострове» [Там же. C. 134].
В своей работе С. А. Никитин достаточно мало внимания уделяет тюрко-болгарскому фактору в процессе генезиса государства, считая, что тюрко-болгары не оказали влияния на процесс становления государственности. Они, по мнению исследователя, на короткий промежуток времени заняли главенствующие позиции в государстве, но кардинальным образом не повлияли на пути дальнейшего генезиса Первого Болгарского царства. Автор утверждал: «Такое положение не было устойчивым и длительным, и через два века протоболгары полностью слились со славянами» [Там же. C. 150].
Как мы уже отмечали ранее, славяноведение 40–50-х гг. XX в. было подвержено сильному идеологическому давлению. Это ярко демонстрируют работы С. А. Никитина и Н. С. Державина. В трудах исследователей преобладает тенденция к возвеличиванию роли славян в мировой истории, интерпретация источников в русле марксистской теории политогенеза. Между тем исследования Н. С. Державина, В. И. Пичеты, С. А. Никитина, М. В. Левченко, Б. Д. Грекова дали основу для дальнейшего развития славяноведения. Достижением указанного периода следует признать также активное привлечение новых источников, прежде всего данных археологических изысканий.
1960-е – начало 1970-х гг. в советском славяноведении отмечены снижением интереса к ранней истории балканских славян и преобладанием тематики освободительного движения и «строительства социализма» в новых славянских государствах.
Между тем ослабление интереса к древней истории славян способствовало тому, что в рамках марксистской концепции появляются более оптимальные подходы к теме генезиса Первого Болгарского царства. Особо необходимо отметить работы одного из ведущих советских славистов последней трети XX в. Г. Г. Литаврина, цикл публика- ций которого в 1980–1990-е гг. задал новый уровень славянских исследований в советской историографии.
В работах Г. Г. Литаврина Первое Болгарское царство предстает уже не как чисто славянское государство, а как симбиоз славянских и тюрко-болгарских политических институтов. Названный автор по-новому интерпретирует многие события и явления ранней истории тюрко-болгар и славянского населения Нижнего Подунавья.
В своей статье «К проблеме становления Болгарского государства» Г. Г. Литаврин отмечает, что после разделения Курбатом своих владений между сыновьями, Аспарух уводит свое племя в земли империи без договора с Византией, как считал Н. С. Державин, а главной причиной ухода болгар на Дунай было вторжение хазар [8. C. 29–30].
Говоря о составе пришедших тюрко-бол-гар в Византию, указанный исследователь утверждает, что это была не часть племени в лице дружины Аспаруха, а именно все племя. К таким выводам Г. Г. Литаврин приходит исходя из двух фактов: под давлением хазар вторгшихся в степь, Аспарух был вынужден уводить свою часть племенного объединения в более безопасные земли. Г. Г. Литаврин приводит летопись Феофана Исповедника, в которой сказано: «Один из сыновей Курбата с пятой частью бывших подданных отца, оказавшихся под его властью, двинулся под давлением хазар на запад, не желая в отличии от своего брата Батбаяна признать господство их кагана» [Там же. C. 29]. Второй факт, на который ссылается Г. Г. Литаврин, это выдержка из летописи все того же Феофана об осаде Онгла, где говорится: «Когда василевс Константин узнал, что народ болгар грязный и нечиститый разбил лагерь по ту сторону Онгла и совершает набеги…» [Там же. C. 29–30].
Основываясь на этом источнике, Г. Г. Литаврин ставит под сомнения выводы Н. С. Державина о приглашении Аспаруха властями Византии или славянскими племенными вождями и о славянском характере тюркоболгарского войска. Власти империи, находившиеся в постоянном военном и торговом контакте с славянами, должны были знать о значительной части славян в дружине Ас-паруха, и это должно было найти свое отражение в источнике. В источнике же Феофан четко указывает: «Народ грязный болгар», и если в войске Аспаруха и были славяне, что можно с легкостью допустить, так как Аспа-рух проходил через славянские земли и некоторые малые славянские дружины могли к нему примкнуть, то их число было незначительным, что и не дало возможности летописцу упомянуть о них.
Также Г. Г. Литаврин сомневается и в возможности приглашения Аспаруха властями империи, так как в византийских хрониках должны были остаться упоминания о таком договоре. Названный автор указывает на важную формулировку в источнике Феофана «Когда василевс Константин узнал, что народ болгар грязный и нечиститый разбил лагерь по ту сторону Онгла и совершает набеги…» [Там же. C. 29–30], что не могло быть в условиях заключения договора о поселении болгар в качестве федератов 1.
Время пребывания в Онгле, как считает Г. Г. Литаврин, ограничивалось двумя-тремя годами, что дало возможность племени восстановить силы и начать систематические набеги на имперские владения. Видя это, император Константин IV организует карательную экспедицию против болгар в 680 г. Подробности похода и его результаты подробно описаны в двух византийских хрониках Никифора и Феофана [Там же. C. 31–33].
Поражения византийских войск и успешные действия Аспаруха приводят к тому, что в 681 г. между болгарами и империей заключается мирный договор, результатом которого стало признание Византией за болгарами части своей территории и выплата ежегодной дани. По мнению Г. Г. Литаврина, хотя заключенный в 681 г. договор с Византией и можно признать отправной точкой договорных отношений тюрко-болгар с империей, его нельзя считать временем появления Болгарского государства.
Система управления в Болгарии фактически с событий 680–681 гг. характеризовалась Г. Г. Литавриным как «государственная» [9–12], однако в источниках о конкретных формах организации власти сведений почти не было. Практически во всех своих работах исследователь отмечал, что славяне приняли «активное участие в созда- нии государства, верховная власть в котором принадлежала протоболгарской знати» [10. C. 238]. Как уже указывалось, Г. Г. Литаврин считал, что толчком к основанию Болгарского государства стала «договоренность хана с вождями славиний о взаимных обязательствах в рамках единой политической системы» [12. C. 238]. По его мнению, славянская знать признала власть Аспаруха, исходя не только из социальных интересов, но и «была заинтересована в утверждении независимости от империи и аваров и в обеспечении… безопасности своих территорий». Такой необычный характер отношений «победителей-кочевников» и славян-земледельцев автор объяснял тем, что славяне в численном отношении в несколько раз превосходили тюрко-болгар и поэтому представляли собой силу, которую «хан опасался восстановить против себя» [Там же].
При рассмотрении вклада славян и тюр-ко-болгар в образование Болгарского государства, Г. Г. Литаврин подчеркивал, что в VII–VIII вв. ни одно из славянских племенных объединений (включая так называемое «княжество Само»), ни тюрко-болгарские политические образования в Приазовье («Великая Болгария»), на Волге, в Ломбардии государствами не стали. Поэтому возникновение Дунайской Болгарии оценивалось исследователем как своего рода исключительный случай «для всего славянского и протоболгарского мира». Специфика тюрко-болгар заключалась в преодолении этно-племенной замкнутости и ориентации на синтез со славянскими подданными. Немаловажной особенностью тюрко-бол-гар в связи с этим ученый считал их сравнительно быстрое оседание и растворение в славянской среде в отличие от аваров, печенегов и половцев, которых византийская администрация в XI–XII вв. неоднократно расселяла на Балканах и безуспешно пыталась заставить заниматься земледельческим трудом [13. C. 542].
Болгарское раннесредневековое государство Г. Г. Литаврин считал результатом синтеза двух общественных структур, при этом каждая из сторон как бы «дополнила»… «недостаток» в развитии тех или иных общественных институтов у другой стороны [8. C. 42–43]. Этот синтез, по мнению ученого, имел место по преимуществу не в социаль- но-экономической, а в военно-политической сфере: «Приход орды Аспаруха явился фактором, как бы восполнившим… не созревавшие» в политической сфере «элементы структуры местного славянского общества, необходимые для перехода к государственным формам жизни» [10. C. 161].
Политическую роль болгар Г. Г. Литаврин оценивал через призму классовой теории. Он пишет, что если до 680 г. племенная аристократия союза «Семи родов» не обладала достаточной воинской силой для превращения централизованной эксплуатации в регулярно функционирующую систему, для объединения всех славиний региона и обеспечения обороны своей территории от византийцев и от аваров, то «объединение с протоболгарами» фактически позволило решить многие из обозначенных проблем: «строго организованное и дисциплинированное конное войско протоболгар в сочетании с пехотными отрядами славян оказалось способным противостоять любому врагу, с которым Болгария сталкивалась в VIII–IX вв.» [8. C. 45; 9. С. 43, 46].
Таким образом, концепция генезиса Первого Болгарского царства на Балканах в работах Г. Г. Литаврина претерпела значительные изменения по сравнению с исследованиями середины XX в. В работах Г. Г. Литаврина генезис Болгарского государства предстает как сложный процесс, занявший достаточно большой промежуток времени. Также названный исследователь по-новому трактует вопрос о роли тюрко-болгар в процессе формирования государства. В отличие от историков предшествовавшего поколения, считавших роль тюрко-болгар в истории Болгарии незначительной, Г. Г. Литаврин отводит им значительное место роль в процессе генезиса государства, хотя эта концепция в его работах и выглядит противоречивой. Так, Г. Г. Литаврин пишет, что поражение византийцев весной 860 г. позволило тюрко-болгарам вторгнуться в Добруджу и Восточную Мисию, продвинуться в «западные районы между Дунаем и Балканами» и подчинить ряд славянских племен, которые рассматривались им как федераты Византии, охранявшие территории империи от аваров [8. C. 34, 36–37, 39; 9. С. 42–43; 12. С. 239].
Отношения тюрко-болгар и славян в Ми-сии автор также характеризовал несколь- ко противоречиво 2. Он писал о подчинении Аспарухом союза «Семи родов», о насильственной переселенческой политике. По его мнению, «разделение и перемещение славян этого союза по инициативе Аспаруха» свидетельствовало о том, что «в руках хана с самого начала оказалась верховная власть над славянским населением не только восточных, но и в западных районах Мисии» [8. C. 35; 14. С. 9]. Эти противоречия в работах Г. Г. Литаврина до сих пор остаются неразрешенными.
Период с начала 1990-х гг. принес значительные изменения в отечественную историческую науку. С крушением прежней общественной системы и отказа от «единственно верной» научной концепции появляется возможность разрабатывать вопросы политоге-неза в рамках различных концепций генезиса государства, что, однако, практически не коснулось современного отечественного славяноведения. Не прослеживается влияние этих новых идей и в работах Г. Г. Литаврина.
Из исследований 1990-х необходимо остановиться на работах В. В. Седова [15] и М. Б. Свердлова [16]. Рассматривая объединение, созданное Аспарухом на Дунае, В. В. Седов характеризовал его как «крепнущие военно-политическое объединение, в котором высшая власть принадлежала пришлому кочевому тюркоязычному племени, а подчиненное земледельческое население составляли славяне» [15. C. 258]. Ученый считал, что только в окраинных регионах славяне сохранили подвластные хану этносоциальные организмы (Славинии), управлявшиеся князьями. Последние возглавляли отряды славянских ополченцев и участвовали с этими отрядами в военных операциях хана. Им была поручена охрана границы государства [Там же. C. 258, 261]. Болгария на рубеже VII–VIII вв. оценивалась ученым как «обычное полукочевое государство» [Там же. C. 261]. По мнению названного автора, это была «своеобразная федерация, ядро ко- торой составляли протоболгары, а периферию – зависимое славянское население, по численности заметно превосходившее болгар-тюрок». Как считает В. В. Седов, институты власти тюрко-болгар, сохранявшиеся примерно до 30-х гг. IX в., восходили «к военно-политической системе кочевого скотоводческого народа» [Там же].
Большое внимание данный автор уделил археологическим памятникам тюрко-бол-гар. Он подробно описал постройки в Плис-ке при Аспарухе 3 и высказал предположение о том, что строителями крепости и дворцовых зданий могли быть византийцы, так как у тюрко-болгар опыта возведения каменных сооружений не было. Об участии славян он пишет весьма осторожно, видимо потому, что аналогичные постройки не встречались и у славян. Последние могли выступать в качестве рабочих, так как следы их пребывания в районе Плиски зафиксированы археологически. Исследователь также дает краткое описание других «протоболгарских станов» в Малой Скифии (под Плиской, в Блашково в округе Варны, около Кладенци в Толбухин-ском округе, в Стремен близ г. Бяла, Нова Черна в Силистренском округе) [Там же]. Наиболее четко этнические и культурные различия между тюрко-болгарами и славянами, как показывал В. В. Седов, отмечались в погребальных памятниках [Там же. C. 262].
Наиболее интересны выводы В. В. Седова о факторах ассимиляции славянами тюр-ко-болгар и складывании единой болгарской культуры. Ученый считал, что этот процесс «носил естественно-исторический характер». Как и Г. Г. Литаврин, В. В. Седов полагал, что «в новых естественно-географических и культурно-исторических условиях, в которых оказались протоболгары в Западном Причерноморье», они не смогли сохранить кочевой хозяйственный уклад, так как «в этом регионе не было обширных степных пространств», а «перегоны скота были ограничены» из-за освоения славянами значительной части земли под вспашку. Как указывал исследователь, «проживание славянского населения и протоболгар на одних поселениях и использование одних могильников для захоронений умерших» свидетельствовало не только о территориальном смешении, но и о начавшемся процессе метисации [15. C. 262–263]. Хотя исследователь не раскрывает полностью причин этого процесса, он пытается раскрыть механизм адаптации «протоболгарского этноса» в славянской среде (усвоение атрибутов земледельческого уклада, многие элементы быта и духовной жизни). Сыграла свою роль, по мнению В. В. Седова, и незначительная численность тюрко-болгар по сравнению со славянским населением. Причем «по мере расширения Болгарского государства за счет присоединения новых славянских земель» доля тюрко-болгар все время уменьшалась: тюрко-болгары «оказались рассеянными на широкой территории, и славянская среда все более и более активно их поглощала», что находит отражение и в числе могильников, которые можно более или менее уверенно связывать с тюрко-болгарами» [Там же. C. 263]. Результатами процесса метисации стало формирование «с рубежа VIII и IX вв., а в основном в IX столетии единой археологической культуры… между поречьем Дуная и Балканскими горами». Расцвет ее придется «на период с IX по начало XI в.» [Там же]. В. В. Седов полагал, что «исследованные в ареале этой культуры погребальные памятники – грунтовые могильники с биритуальными захоронениями – свидетельствуют уже о полном культурном слиянии представителей двух основных этносов – протоболгар и славян». В частности, в регионе между Дунаем и Балканскими горами в IX в. обряд кремации в целом стал преобладать над ингумациями, что исследователь объяснял следствием перехода тюрко-болгар к «оседлому образу жизни и земледельческому укладу», сопровождавшемуся не только этническим смешением, но и постепенным принятием «славянской погребальной обрядности» [Там же. C. 262–265].
Что касается монографии М. Б. Свердлова, то ее отличает сочетание формационного подхода с представлениями о жесткой этнической иерархии в общественно-политической структуре Болгарии и существовании системы подчинения славян тюрко-бол-гарам в конце VII – начале VIII вв. К тому же автор более детально изучил специфику номадных политических организаций и выявил параллели в структуре и функционировании власти, титулатуре верховных правителей Дунайской Болгарии и других объединений кочевников (Тюркские каганаты, Монгольская империя).
В целом при анализе исходных общественных условий образования Дунайской Болгарии М. Б. Свердлов поддерживает точку зрения Г. Г. Литаврина и считает, что «социальный строй кочевников-болгар в VII в. можно охарактеризовать как племенную систему в период распада», «синхростадиальную» «уровню развития общественного строя славян того же периода» [16. C. 53]. Однако он не указывает на различия в социальной организации славян и тюрко-болгар и социально-политические механизмы, которые обеспечили военно-политическое превосходство тюрко-болгар Аспаруха над славянами.
Как и Г. Г. Литаврин, М. Б. Свердлов полагает, что события 680–681 гг. «свидетельствуют о появлении… нового государственного образования, которое стало новым этапом в развитии политических структур болгар и славян» [Там же. C. 54]. При этом, как уже подчеркивалось выше, исследователь отвергает союзный характер славяно-болгарских отношений и считает, что болгары захватили «огромную территорию от Дуная до Балканских гор и Черного моря», переселили севе-ров/северян и «Семь племен» в пограничные районы, получив тем самым обширные районы для кочевания, и обязали славян платить им дань. Договор с Византией в 681 г. закрепил позиции болгар к северу от Балканских гор и позволил получать ежегодную дань от империи. Все это меры М. Б. Свердлов расценивал как деятельность по «организации нового государственного образования, в котором славяне оказались в угнетенном положении» («дань славян выражала их подчинение болгарам») [Там же].
В политическом развитии Болгарии конца VII – середины IX вв. М. Б. Свердлов выде- ляет два этапа. На начальном этапе существования Дунайской Болгарии (конец VII – начало IX вв.) исследователь определяет ее как «характерное для эпохи Великого переселения народов “варварское” государство, образовавшееся в результате завоевания, с различными этносами, сохранившими племенные структуры на стадии распада родоплеменного строя» [16. C. 54]. Его дальнейшее развитие характеризуется М. Б. Свердловым только по известным политическим событиям (политические успехи и победоносные войны хана Тервеля, кризис центральной политической власти в 754–768 гг., когда сменилось шесть ханов, стабилизации политического положения при ханах Телериге и Кардаме).
Второй этап данного процесса М. Б. Свердлов связывал с «превращением Болгарии в могущественное государство при Круме, Омуртаге, Маламире и Персиане» [Там же. C. 54–55]. Завершилось это укрепление государственности серией реформ и принятием христианства при Борисе–Михаиле. Все внешнеполитические успехи в борьбе с Византией, присоединение земель со славянскими племенами ученый считал «только внешним выражением внутреннего социально-экономического развития страны, качественных изменений общественного строя и социально-политических структур» [Там же].
Рассмотрим наиболее важные черты государственности, которые выделил М. Б. Свердлов на каждом их двух обозначенных этапов. Исследователь считал, что на первом этапе преимущественное значение имели «традиции централизованной военной системы кочевников-тюрок». По его мнению, установление династического правления одного знатного рода, несмотря на свержение отдельных его представителей, «способствовало концентрации в руках хана власти военного вождя, верховного законодателя и судьи, верховного жреца» [Там же. C. 55]. Практически только ссылкой на работу Б. Я. Владимирцова 1934 г. 4 М. Б. Свердлов обосновывал связь власти ханского рода в государстве кочевников «с верховной собственностью этого рода на государственную территорию…» [Там же]. Выше уже подчеркивалось, что современные исследователи не разделяют эту концепцию. По нашему мнению, в Болгарии верховная собственность хана (князя), а не его рода возникла только со становлением государственной системой в середине IX в., что и позволило ханской (княжеской) администрации осуществлять регулярный сбор налогов с населения.
В целом же прослеживаются три основных подхода к проблеме возникновения Первого Болгарского царства. Первый из них был характерен для историков 1940–1950-х гг., рассматривавших возникновение Болгарского государства как чисто славянского политического образования и принижавших роль тюрко-болгар в данном процессе. Второй подход изложен в работах Г. Г. Литаврина и М. Б. Свердлова, считавших формирование государства результатом симбиоза славянских и тюрко-болгарских элементов. Согласно же третьему подходу, изложенному В. В. Седовым, Первое Болгарское царство признается на первоначальном этапе сугубо тюркоболгарским государством с преобладанием кочевой элиты и лишь с IX–X вв. расценивается как славянское государство.
Материал поступил в редколлегию 10.10.2007