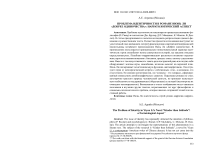Проблема идентичности в романе Июнь Ли "Добрее одиночества": нарратологический аспект
Автор: Агратин Андрей Евгеньевич
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Зарубежные литературы
Статья в выпуске: 2 (53), 2020 года.
Бесплатный доступ
Проблема идентичности неоднократно привлекала внимание философов (П. Рикер) и психологов (Дж. Брунер, Д.П. Макадамс, К. Маклин, В. Данлоп). В статье предпринимается попытка исследовать репрезентации данного феномена в художественном тексте. В качестве предмета исследования выступает не удостоенный пока вниманием литературоведов роман современной американской писательницы китайского происхождения Июнь Ли «Добрее одиночества». В произведении постулируется принципиально повествовательный характер идентичности: герои уподобляют жизнь совокупности историй, где каждому отведена определенная роль. Подобная «нарративизация» реальности позволяет персонажам упростить взаимоотношения с близкими, придать смысл своему существованию. Вместе с тем искусственность такого рода построений рано или поздно себя обнаруживает: мотивы игры, самообмана, иллюзии выходят на передний план. Июнь Ли подчеркивает экзистенциальную функцию «автонарративов». Они страхуют героя от непосредственной встречи с собственным «эго», а возможно, его отсутствием. По мнению когнитивистов, «я» человека - это «мираж», сформированный множеством автобиографических сюжетов. Персонажи романа не столь категорично трактуют природу человеческой самости, но признают вынужденную необходимость поддерживающих (оберегающих) ее историй (несмотря на их очевидное несовершенство). Высказанные в статье соображения могут оказаться полезными в изучении других текстов, затрагивающих тот круг философских и социально-психологических проблем, которые явились отправной точкой для настоящей работы.
Июнь ли, идентичность, герой, роман, нарратив, нарратология
Короткий адрес: https://sciup.org/149127441
IDR: 149127441
Текст научной статьи Проблема идентичности в романе Июнь Ли "Добрее одиночества": нарратологический аспект
Проблема идентичности получила широкое освещение в философии [Рикер 1998; Макинтайр 2000] и социальной психологии. Вторая отмечена более динамичным развитием и вплоть до настоящего времени активно продолжает традицию, заложенную еще Э. Эриксоном в работах конца 1950-х-начала 60-хгг. [Erikson 1959; 1972; 1993]. Специалисты по данной проблеме [Bruner 1986; McAdams 1988; 2001; McLean 2005; Narrative and Identity 2001; Dunlop 2018] сходятся во мнении, что идентичность всегда носит нарративный характер, причем неважно, о каком ее типе идет речь (о принадлежности к той или иной социальной группе либо целостности, непрерывности персонального «я») Чтобы составить какое-то представление о себе, человек должен рассказать историю: студент, преподаватель, президент, любовник, муж, искатель приключений, подросток и т.д. - каждый связывает свой образ с каким-то сюжетом (охватывающим всю жизнь в целом либо имеющим отношение только к конкретным людям и событиям) или совокупностью (иерархией) сюжетов.
Однако интерес представляет не только философский и социальнопсихологический смысл занимающего нас феномена, но и его репрезентации в различных текстах, прежде всего - художественных, имеющих своей непосредственной задачей эстетическое воспроизведение различных аспектов человеческого существования, с одной стороны, и объективно наиболее сложных в структурном отношении - с другой.
Подобного рода репрезентации косвенно уже рассматривались в «постклассической» нарратологии (о «постклассической» нарратологии см. подробнее [Барышникова 2003]). Так, в повествовательных произведениях выделяется дополнительный план рассказывания, так называемые «встроенные нарративы» (“embedded narratives”) [Ryan 1986; Palmer 2004, 15] - убеждения, верования, желания, мотивы героя, его воспоминания, намерения: персонаж не только действует, но и позиционирует себя в качестве актанта определенной истории - она может отличаться от истории, рассказанной нарратором (толкуемый термин служит также обозначению композиционной модели «рассказ-в-рассказе» [Nelles 2005]).
«Встроенные нарративы» обычно квалифицируются лишь как обязательное условие адекватного понимания текста. М.-Л. Райан приводит такой пример: если бы читатель басни Эзопа «Ворон и лисица» «приписал лисице намерение выяснить, насколько хорошо ворон может петь, он толком и не понял бы произведения <.. .> И если читатель не имеет представления о планах лисицы, он просто не понимает историю» [Ryan 1986, 329].
Однако функциональная нагрузка «встроенных нарративов» может быть значительно шире. В особенности это относится к литературным произведениям, в которых открыто проблематизирована повествовательная природа идентичности (попытки анализа произведений интересующего нас типа уже предпринимались [Агратин 2016; 2017; 2018; Тюпа 2016; 2017]; кроме того, исследователи обращаются к вопросу о репрезентации идентичности в литературе, исходя из более общего (не нарратологиче-ского) понимания комментируемой категории [Морженкова 2011; Меняйло 2013; Иванов 2018]). Яркий тому пример - роман современной американской писательницы китайского происхождения Июнь Ли «Добрее одиночества» (“Kinder than Solitude”) [Li 2014]. Следует подчеркнуть, что он пока не удостаивался внимания исследователей (сама Июнь Ли упоминается в работах Е.М. Бутениной, посвященных творчеству китайско-американских писателей [Бутенина 2014; 2015]). Этим в первую очередь объясняется выбор предмета настоящей статьи: произведение представляет собой неизученный, но тем не менее неоднократно отмеченный критиками [Молдабеков 2018; Юзефович 2018; Lasdun 2014; Row 2014] текст современной англоязычной прозы.
Кратко коснемся ключевых событий романа. Герои, связанные дружескими и родственными отношениями, показаны в двух пространственно-временных планах: прошлом (Китай, конец 1980-х годов) и настоящем (бывшие подруги Можань и Жуюй переезжают в США, Боян, их одноклассник, остается в Пекине). Эти планы сопряжены между собой через ключевые точки сюжета: отравление Шаоай, дальнего родственника Жуюй, и ее смерть двадцать лет спустя (тайна преступления образует интригу романа). В центре сюжета конфликт между Жуюй и Шаоай. Первая, воспитанная бабушками-католичками (сама героиня, а вслед за ней и повествователь, именует их тетями), приезжает из провинции в Пекин, чтобы продолжить образование и впоследствии уехать за границу, и останавливается у родителей Шаоай. Последняя крайне радикально настроена по отношению к существующему в Китае политическому режиму и оказывается отчислена из университета за участие в студенческом бунте 1989 г. Напряженность между персонажами возникает из-за мировоззренческих различий: Шаоай максимально вовлечена в социальную жизнь и требует такой же активности от других - Жуюй свойственна религиозная экзальтированность, индифферентное отношение к другим людям, их радостям и страданиям. Навязчивое вторжение Шаоай в жизнь гостьи - не толь- ко словесное (идеологическое), но и сексуальное - завершается тем, что Жуюй похищает из лаборатории вредное химическое вещество и подмешивает его в стакан с соком, который Шаоай нечаянно выпивает. В результате героиня на долгие годы становится инвалидом (утрачивает зрение, мыслительные способности, не может ходить). Боян (он неравнодушен к Жуюй) и Можань (она ревнует Бояна к своей новой приятельнице) становятся свидетелями произошедшей трагедии: разгадка ждет читателя лишь в конце произведения (хотя «преступника» несложно вычислить в самом начале). Параллельно событиям прошлого перед нами разворачиваются картины из современной жизни с участием упомянутых выше героев: они стараются осмыслить собственное существование, разобраться в «паутине» составляющих его повествований.
В романе Июнь Ли проблема идентичности раскрывается в нескольких ракурсах. Подробнее коснемся каждого из них.
Конструирование нарратива
Нарратив, обеспечивающий формирование человеческого «я», характеризуется Июнь Ли метафорически - как своеобразный «конструктор», который можно собирать и разбирать по своему усмотрению.
Именно такое понимание «автонаррации» присуще Можань. Переехав в США, она смотрит на свою жизнь сквозь призму четко структурированного «сценария», позволяющего осуществить отбор различных элементов «повествуемой» реальности - оставить нужное и отбросить лишнее: «<...> надо уподобиться суши-повару резать, подравнивать, пока жизнь -или память о жизни - не превратится в презентабельные кусочки» [Ли 2018, 82] (далее в статье ссылки на это издание даются в круглых скобках с указанием номеров страниц).
Попутно отметим, что не только Можань «просеивает» действительность сквозь «сито» повествования. То же самое делают и родители Бояна, по мнению которых, «ключ к успеху <.. .> в способности жить селективно, с выбором, забывать то, о чем лучше не помнить» (21).
Основная проблема нарративных построений заключается в их искусственности. Формирование человеческого «я» происходит благодаря процедуре связывания моментов бытия. Жуюй, в отличие от Можань, решает от нее отказаться, демонстрируя скептическое отношение к повествовательному «жизнестроительству»: «Та, что вытирала полки в магазине, была также реальна в своей весомой отдельности, как та, на кого хозяева двух померанских шпицев оставляли их, отбывая на отдых в южную Францию или Италию, и как та, что учила двух слабо мотивированных подростков мандаринскому <...> Ничто не соединяет одно “я” с другим <...>» (213).
Нарративное «я»и другие
Чрезвычайно сложно отношение «я» к другому через посредничество искусственно созданного повествования.
Конструирование нарратива зачастую наносит серьезный вред близким «рассказчику» людям - ведь они сводятся к действующим лицам повествуемой истории. Так происходит с Иозефом, бывшем мужем Можань: «<...> может быть, она и правда использовала Иозефа, ошибочно увидев в нем начало новой истории и бросив его, когда стало ясно, что сценарий не работает <...>» (315).
Подобным же образом позиционирует всех окружающих Жуюй, однако героиня руководствуется более тонким и осмысленным расчетом, последовательно обеспечивая себе столь ценимую ею уединенность: в общественных местах (магазин, кухня и т.д.) Жуюй находится «среди людей и в то же время обращается с ними как с целующимися голландскими куколками около кассы» (210).
Нередко чужой нарратив вторгается в жизнь человека - «рассказчик» нарушает его свободу, приписывает ему те или иные свойства, заставляет что-то делать и т.д., иными словами - присваивает его себе. Эдвин, муж Селии, у которой на правах гувернантки останавливается Жуюй, обращается к ней с сочувственными репликами, узнав о смерти Шаоай. Однако Жуюй сразу же «почувствовала прилив незнакомого гнева. Какое право имеет Эдвин лезть в нее в поисках горя, которое ему хочется обнаружить?» (61). Непростая ситуация сложилась у эмигрантки со вторым мужем, чей жизненный путь ей совершенно чужд: «Присоединяться к возвращению Пола на родину Жуюй отказалась категорически <.. .> Жуюй не возражала против того, что у него есть прошлое, но абсорбироваться в его, и чью бы то ни было, историю не желала» (222-223).
Более мягкий вариант «повествовательного» принуждения - это не включение собеседника в свою историю в качестве персонажа, а создание его собственной биографии. Так поступает Селия. Она предполагает, что в возрасте восемнадцати-девятнадцати лет Жуюй стала любовницей женатого мужчины (богатого человека или чиновника высокого ранга), а когда возникли сложности, он решил поселить ее в Калифорнии (теперь его жена, скорее всего, умерла, и «препятствия больше нет»). При этом два замужества Жуюй интерпретируются Селией как ловкий обман с целью отвести глаза новых знакомых китаянки от реального положения дел (356-357).
Если Жуюй, не склонная к «автонаррации», избегает контакта с чужими историями, то «рассказчица» Можань, напротив, нуждается в них. Так, она «вышла за Иозефа ради всего того, что могла унаследовать из его прошлого - ради его друзей, детей внуков, - чтобы ей не надо было строить собственную жизнь <.. .>» (172). Однако здесь героиня сталкивается с серьезными сложностями, поскольку ее идентичность теряет четкие контуры, «размывается»: «Но как определить, где кончается твое подлинное
“я” и начинаются заемные?» (293).
Нарратив как «готовое слово»
Зачастую герой строит нарратив о себе в соответствии с хорошо известными клише. Они функционируют как своего рода прикрытие, повествовательная ширма для защиты своего «я» (нарратива, созданного для себя). Знакомясь с Иозефом, Можань прибегает к подобной уловке: «В кафе Иозеф спросил Можань, откуда она, что изучает в университете и испытала ли в Америке культурный шок. На эти вопросы у Можань имелись готовые ответы, удерживающие собеседника от дальнейших вопросов» (175).
С помощью нарративных стереотипов «рассказчик» упрощает взаимодействие с другими людьми. Подобно Селии, которая придумала биографию Жуюй, Боян сочиняет историю Сычжо (как бы берет ее в готовом виде из некоего сюжетного фонда), но не навязывает «сюжет» собеседнику, а использует его в качестве справочного материала, гарантирующего успешную коммуникацию с новой подругой: «Он мог назвать кое-что из того, о чем мечтала Сычжо: удержаться на работе <.. .> найти возможность продвинуться вверх по жизни <...> и купить небольшую квартиру <...> познакомиться с какими-нибудь нужными людьми <.. .> брак и дети - своим чередом <.. .>» (244).
Источником нарративной идентичности может выступить литература - тоже в каком-то смысле «готовое слово», однако ему герой верит. Автор не эксплицирует автонарратив Шаоай, но все же некоторые ее читательские предпочтения упоминаются неслучайно. Жуюй замечает на полу в комнате девушки «книгу “Второй пол” некой де Бовуар <...> Были и другие, потоньше, все с неприятными названиями: “Тошнота”, “Мухи”, “Чума”. Одна книга, впрочем, привлекла внимание Жуюй: “Исповедь сына века”» (149). Более определенно Июнь Ли говорит о роли литературных произведений в судьбе Можань: «В ее комнате в Пекине осталась коробка с романами - в их числе был “Доктор Живаго” <.. .> эти романы, чьи герои носили длинные и плохо запоминающиеся имена, давали ей успокоение: даже самые сложные истории несли с собой ясность, которой она не находила в окружающем мире <...>» (178-179).
«Инсценировка» нарратива
Жить согласно сценарию с неизбежностью означает играть определенную роль. Герои Июнь Ли всякий раз оказываются в ситуации «спектакля».
Селию при появлении гостей «наполняет нервозность публичности, энергия аффектации, сцены» (49). Сама Жуюй для обеспечения коммуникативного комфорта в компании друзей своего работодателя берет на себя роль «образованной иммигрантки без перспективной трудовой спе- циальности, одинокой, но уже не столь молодой; съемщицы жилья; вполне надежной наемной помощницы, умеющей и с собаками, и с детьми обращаться по-доброму, но твердо и никогда не заигрывающей с мужьями; женщины, которую, на ее счастье, Селия взяла под крыло; зануды» (50).
Отношения между Бояном и его знакомой Коко тоже строятся по законам сцены. Герой пытается играть «хама» и «почтительного сына», в то время как его собеседница «не смела отходить от сценария, где она была молодая и привлекательная приезжая из провинциального города, которая не может позволить себе искать в столице любовь, но, не лишенная смекалки, способна получить многое другое» (123).
Семейные праздники в кругу родных и близких Иозефа кажутся Мо-жань срежиссированными, ненастоящими: «Порой беседа превращалась в этакую вербальную игру, перепасовку между братьями или мужем и женой, и непринужденность, с какой это происходило, породила у Можань диковинное чувство, будто они живут внутри телешоу» (311).
Как только нарратив покидает пределы ментальной сферы, становится отправной точкой перформативной деятельности, «я-для-себя» превращается в «я-для-других» - еще более ненадежное, существующее до тех пор, пока продолжается «спектакль».
Экзистенциальная функция нарратива
Нарратив выполняет важную экзистенциальную функцию, а именно страхует героя от непосредственной встречи с собственным «я», а возможно, его отсутствием. Здесь уместным будет вспомнить, что, по мнению современных исследователей-когнитивистов, «Я» человека - это сложная когнитивная иллюзия, складывающаяся из множества подобных историй нашей жизни, организованных в автобиографический Я-нарратив с единым главным героем» [Зайцева 2016, 12].
Персонажи романа не столь категорично трактуют природу человеческой самости, но признают вынужденную необходимость поддерживающих (оберегающих) ее историй (несмотря на их очевидное несовершенство). К подобным выводам приходит Жуюй в финале произведения: «Чтобы иметь лицо - чтобы тебя знали, - нужно “я”, но, помимо этого, еще очень многое: некоторое количество людей, связный нарратив изо дня в день, прослеживаемый маршрут от места к месту - все это нужно в дополнение к “я”, чтобы иметь какое-никакое лицо» (363-364).
Для Можань повествование становится заменой счастью: «Жизнь, оглядываясь назад, можно свести у чему-то простому, к совокупности историй, и в таком же ключе мы живем дальше, обменивая свою юную веру в счастье <...> на то, чтобы меньше чувствовать, меньше страдать» (336-337).
Если Жуюй отважно отказывается от историй, оплачивая свою смелость собственным «я» («оказавшись никем [курсив наш. - А.А.], она, должно быть разочаровала Селию» (362)), то Можань находит в них «из- бавление, уход от чего-то» (407).
Июнь Ли определяет границы самопозиционирования субъекта - как внутренние, касающиеся отношения человека к самому себе, так и внешние, обуславливающие его взаимодействие с миром и другими людьми. Порождение и апробация различных нарративных «матриц» ведет героев по тонкой грани между двумя противоречащими друг другу тенденциями: ясностью самосознания и потерей себя. Ни то, ни другое не реализуется в полной мере - ощущения тревоги и неопределенности составляют эмоциональное ядро романного универсума. Надеемся, что наблюдения и выводы, представленные в статье, способны претендовать на некоторую универсальность и окажутся полезными в изучении других текстов, затрагивающих тот круг философских и социально-психологических проблем, которые явились отправной точкой для настоящего исследования. В заключение приведем слова А. Макинтайра из книги 1981 г. «После добродетели»: «<...> человек в своих действиях, на практике и в своих вымыслах представляет животное, которое повествует истории» [Макин-тайр 2000, 291-292]. Вряд ли с тех пор, как была высказана эта мысль, что-то принципиально изменилось. Но, возможно, возникла потребность в каких-то новых историях, новых повествованиях, которые помогли бы современному человеку добраться до своего подлинного «я»? Пока этот вопрос остается открытым, и литература, реагируя на ключевые вызовы XXI в. (а потерю и поиск идентичности, вероятно, следует отнести к таковым), не предлагает читателю окончательного ответа.
Список литературы Проблема идентичности в романе Июнь Ли "Добрее одиночества": нарратологический аспект
- Агратин А.Е. Особенности имплицитной наррации в повести А.П. Чехова «Живой товар»: герой перед лицом угрозы дезидентичности // Филологический класс. 2018. № 3. С. 41-47.
- Агратин А.Е. Идентичность героя в прозе А.П. Чехова 1880-1887 гг. // Вестник славянских культур. 2017. Т. 45. С. 126-137.
- Агратин А.Е. Повествовательные стратегии в прозе А.П. Чехова 18881894 гг.: дис. ... канд. филол. наук. М., 2016. С. 131-171.
- Барышникова Д. Когнитивный поворот в постклассической нарратологии (Обзор новых англоязычных книг) // Новое литературное обозрение. 2003. № 119. С. 309-319.
- Бутенина Е.М. «Лишний человек» в китайско-американской версии // Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная филология. 2014. № 2 (26). С. 141-147.
- Бутенина Е.М. Набоковское эхо в прозе китайско-американских писателей // Россия и Китай: история и перспективы сотрудничества: материалы V международной научно-практической конференции. Благовещенск, 2015. С. 335-339.
- Зайцева Ю.Е. Модель нарративного анализа стиля идентичности // Вестник Санкт-Петербургского университета. Сер. 16. 2016. Вып. 4. С. 6-22.
- Иванов Ю.Ю. Проблема идентичности в романе Янна Мартела «Жизнь Пи» // Вестник Нижегородского государственного лингвистического университета им. Н.А. Добролюбова. 2018. № 42. С. 109-119.
- Ли Июнь. Добрее одиночества. М., 2018.
- Макинитайр А. После добродетели. М.; Екатеринбург, 2000.
- Меняйло В.В. Проблема идентичности в романе Дж. Фаулза «Дэниел Мартин» // Homo loquens: актуальные проблемы лингвистики и преподавания иностранных языков: сборник научных статей. СПб., 2013. С. 185-191.
- Молдабеков Д. Великие джунгли Ханьи Янагихары и скучное одиночество Июнь Ли // Власть. 2018. 5 февраля. URL: https://vlast.kz/books/26734-velikie-dzungli-hani-anagihary-i-skucnoe-odinocestvo-iun-li.html (дата обращения 03.06.2019).
- Морженкова Н.В. Проблема идентичности в романе Г. Стайн «Ида» // Вестник Ленинградского государственного университета им. А.С. Пушкина. 2011. № 2. С. 63-69.
- Рикер П. Время и рассказ. Т. 1. М.; СПб., 1998.
- Тюпа В.И. Кризис идентичности как нарратологическая проблема // Nar-ratorium. 2017. № 1 (10). URL: http://narratorium.rggu.ru/article.html?id=2637243 (дата обращения 03.06.2019).
- Тюпа В.И. Нарративная идентичность: характер и самость // Белые чтения: к 85-летию Галины Андреевны Белой: сборник научных статей. М., 2016. С. 285-296.
- Юзефович Г. «Люди среди деревьев» и еще два отличных романа // Me-duza. 2018. 17 февраля. URL: https://meduza.io/feature/2018/02/17/lyudi-sredi-dere-viev-i-esche-dva-otlichnyh-romana (дата обращения 03.06.2019).
- Bruner J.S. Actual minds, possible worlds. Cambridge (MA), 1987.
- Dunlop W. The Narrative Identity Structure Model (NISM). Imagination, Cognition, and Personality // Imagination, Cognition and Personality: Consciousness in Theory, Research, and Clinical Practice. 2018. Vol. 37 (3). P. 153-177.
- Erikson E.H. Childhood and Society. London; New York, 1993.
- Erikson E.H. Identity and the Life Cycle: Selected Papers // Psychological Issues. 1959. № 1. P. 5-165.
- Erikson E.H. Young Man Luther: A Study in Psychoanalysis and History. London, 1972.
- Li Yiyun. Kinder Than Solitude. London, 2014.
- Lasdun J. Kinder Than Solitude review - 'the aftermath of Tiananmen Square' // The Guardian. 2014. March 28. URL: https://www.theguardian.com/books/2014/ mar/28/kinder-than-solitude-yiyun-li-review-tiananmen-square (дата обращения 03.06.2019).
- McAdams D.P. Power, Intimacy, and the Life story: Personological Inquiries into Identity. New York; London, 1988.
- McAdams D.P. The Psychology of Life Stories // Review of General Psychology. 2001. № 5. P. 100-122.
- McLean K.C. Late Adolescent Identity Development: Narrative Meaning Making and Memory Telling // Developmental Psychology. 2005. № 41. P. 683-691.
- Narrative and Identity: Studies in Autobiography, Self and Culture. Amsterdam, 2001.
- Nelles W. Embedding // Routledge Encyclopedia of Narrative Theory. London; New York, 2005. P. 134-135.
- Palmer A. Fictional Minds. Lincoln; London, 2004.
- Row J. Strangers to Themselves // The New York Times. 2014. March 7. URL: https://www.nytimes.com/2014/03/09/books/review/kinder-than-solitude-by-yiyun-li. htmlj^ara обращения 03.06.2019).
- Ryan M.-L. Embedded Narratives and Tellability // Style. 1986. Vol. 20, № 3. P. 319-340.